Павел Васильев
Автор: Любовь СемешкоСеребряный век русской поэзии
Павел Васильев - поэт, журналист, специальный корреспондент, один из самых скандальных поэтов России.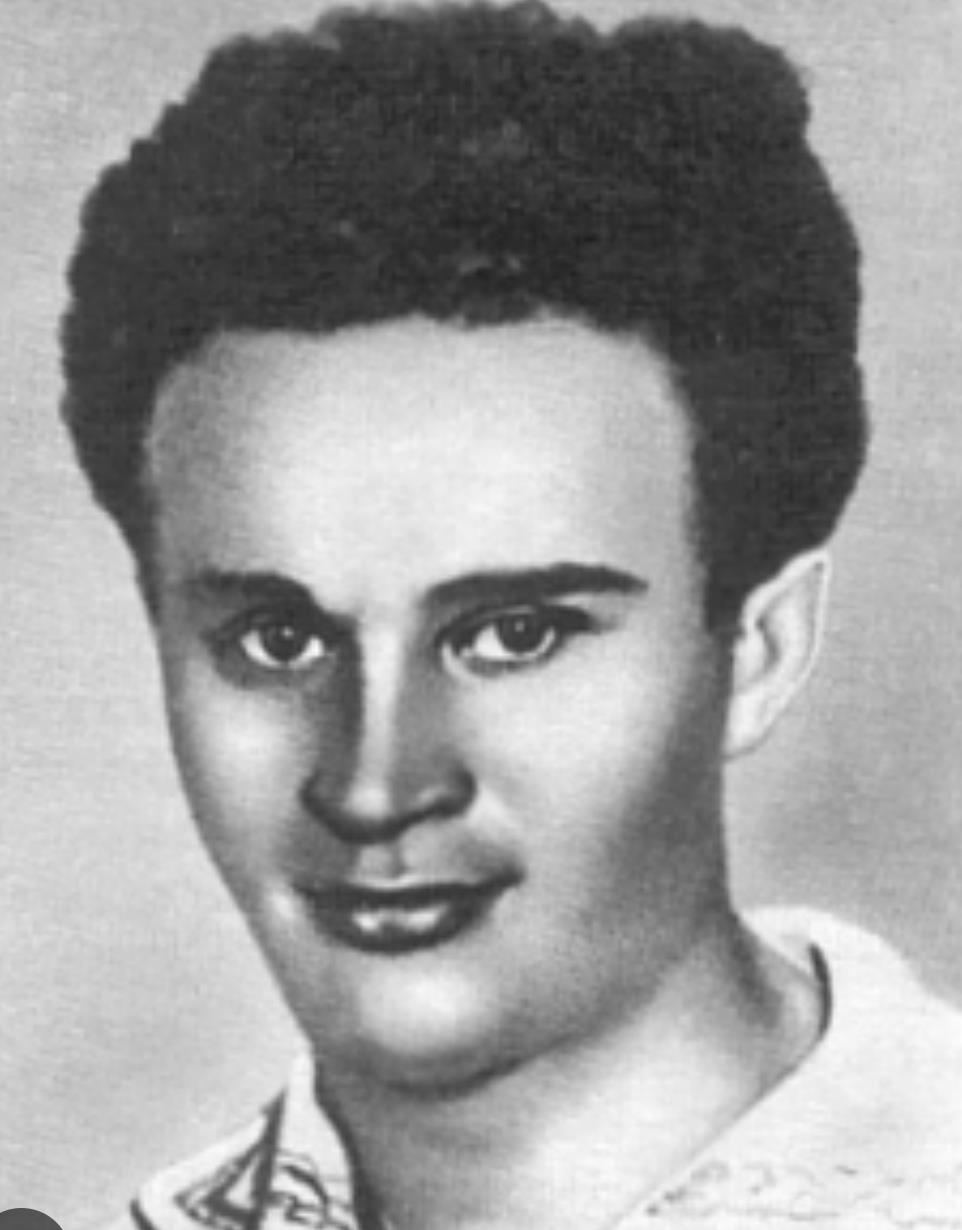
Павел Николаевич Васильев родился 5 января 1910 года в Зайсане (ныне Республика Казахстан) в семье учителя математики.
В 1917 году Павел учился в Петропавловске в высшем начальном училище. В августе 1919 года семья переехала в Омск.
Война гражданская в разгаре,
И в городе нежданный гам, -
Бьют пулеметы на базаре
По пестрым бабам и горшкам.
Красноармейцы меж домами
Бегут и целятся с колен;
Тяжелыми гудя крылами,
Сдалась большая пушка в плен.
Ее, как в ад, за рыло тянут,
Но пушка пятится назад,
А в это время листья вянут
В саду, похожем на закат.
В 1924 году Павел после семилетней школы продолжил обучение в Павлодарской школе 2-й ступени (девятилетке), которую окончил в мае 1926 года. В июне, после серьёзной ссоры с отцом, уехал во Владивосток, пять месяцев проучился в Дальневосточном университете, где прошло его первое публичное выступление. Участвовал в работе литературно-художественного общества, поэтической секцией которого руководил Рюрик Ивнев.
В июле 1927 года приехал в Москву. По направлению Всероссийского Союза писателей поступил на литературное отделение Рабфака искусств им. А. В. Луначарского. В ноябре был отчислен из-за частых прогулов, а также «за недисциплинированность и откол от масс».
В 1928–1929 годах Васильев познакомился с поэтами и писателями, создавшими в Новосибирске неофициальную группу "Памир". Вскоре ГПУ обвинило их в подготовке свержения Советской власти и провозглашения независимого сибирского государства. Самое большее, о чем решались говорить в этой литературной группе, – о "культурной сибирской автономии" и нежелании жить по указке партийцев из Москвы хотя бы в области литературы.
Обледенев, сгибают горы кряжи
Последнею густою сединой…
Открыт простор.
И кто теперь развяжет
Тяжёлый узел, связанный страной?
В 1928 г. по направлению газеты «Советская Сибирь» П. Васильев и Н. Титов отправились в путешествие по Сибири и Дальнему Востоку для написания очерков о социалистическом строительстве в регионе. Они устраивали пьянки, вели богемный образ жизни. В 1929 году в Хабаровске в журнале «Тихоокеанская звезда» опубликовали заметку Г. Акимова «Куда ведёт богема (факты и документы)», в которой были сурово раскритикованы оба поэта.
В июне 1928 года познакомился с Галиной Николаевной Анучиной, студенткой 1 курса Омского художественно-промышленного техникума, а летом 1930 года они стали жить вместе. Галине он посвятил много стихотворений.
И имя твое, словно старая песня.
Приходит ко мне. Кто его запретит?
Кто его перескажет? Мне скучно и тесно
В этом мире уютном, где тщетно горит
В керосиновых лампах огонь Прометея -
Опаленными перьями фитилей...
Подойди же ко мне. Наклонись. Пожалей!
У меня ли на сердце пустая затея,
У меня ли на сердце полынь да песок,
Да охрипшие ветры!
Послушай, подруга,
Полюби хоть на вьюгу, на этот часок,
Я к тебе приближаюсь. Ты, может быть, с юга.
Выпускай же на волю своих лебедей, -
Красно солнышко падает в синее море
И -
за пазухой прячется ножик-злодей,
И -
голодной собакой шатается горе...
Если все, как раскрытые карты, я сам
На сегодня поверю - сквозь вихри разбега,
Рассыпаясь, летят по твоим волосам
Вифлеемские звезды российского снега.
В Москве им жилось впроголодь, а она ждала ребенка. С его ребяческой жаждой вечного праздника и постоянными новыми влюбленностями семейная жизнь ему не подходила. В декабре 1932 года Васильев расстался с Галиной, отправив ее домой, к родителям. В Москве сразу завёл несколько романов, в том числе с Зиной Богдановой. Гале писал: "То, что внутри, истерто, как пятак! И все же, знаешь, ведь у каждого есть что-нибудь свое, хорошее... Вот тебя, например, люблю. Понимаешь?" В это время писал стихи Зинаиде: "Я тебя, моя забава, Полюбил, не прекословь! У меня дурная слава, У тебя дурная кровь. Мёд в моих кудрях и пепел, Ты ж черна, черна, черна! Я еще ни разу не пил Глаз таких - глухих до дна..."
10 апреля 1933 года в Омске у Галины Анучиной родилась его дочь Наталья. В том же году он женился на Елене Александровне Вяловой.
Не знаю, близко ль, далеко ль, не знаю,
В какой стране и при луне какой,
Весёлая, забытая, родная,
Звучала ты, как песня за рекой.
Мёд вечеров - он горестней отравы,
Глаза твои - в них пролетает дым,
Что бабы в церкви - кланяются травы
Перед тобой поклоном поясным.
Не мной ли на слова твои простые
Отыскан будет отзвук дорогой?
Так в сказках наших в воды колдовские
Ныряет гусь за золотой серьгой.
Мой голос чист, он по тебе томится
И для тебя окидывает высь.
Взмахни руками, обернись синицей
И щучьим повелением явись!
4 марта 1932 года Васильев был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной группировке литераторов по делу «Сибирской бригады» и приговорён к высылке в Северный край на три года, однако 28 мая был условно освобождён. После освобождения публиковался под псевдонимом «Мухан Башметов».
Не добраться к тебе! На чужом берегу
Я останусь один, чтобы песня окрепла,
Все равно в этом гиблом, пропащем снегу
Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.
Я над теплой губой обозначу пушок,
Горсти снега оставлю в прическе - и все же
Ты похожею будешь на дальний дымок,
На старинные песни, на счастье похожа!
Но вернуть я тебя ни за что не хочу,
Потому что подвластен дремучему краю,
Мне другие забавы и сны по плечу,
Я на Север дорогу себе выбираю!
...Позабыть до того, чтобы голос грудной,
Твой любимейший голос - не доносило,
Чтоб огнями и тьмою, и рыжей волной
Позади, за кормой убегала Россия.
В конце 1934 года у поэта случилась несчастная любовь к Наталье Кончаловской. Она заслонила для него все на свете, заставив забыть о всякой осторожности.
В наши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко - занавесок нету,
Ветреных, весёлых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!
И ещё прошеньем прибалую -
Сшей ты, ради Бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твоё яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.
Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор и рассудительные речи,
И походку важную твою.
А улыбка - вед какая малость! -
Но хочу, чтоб вечно улыбалась -
До чего тогда ты хороша!
До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.
Пить он стал куда больше, чем прежде (как вспоминает Шаламов, "пьянел он уже с первой рюмки"). Снова начались скандалы. Его выгоняли из ресторана московского клуба писателей, где для "дебошира Васильева" был объявлен специальный запрет на посещения. Он опять буянил в кафе и на творческих вечерах, резко разговаривал с литературными функционерами всех мастей. И итог вышел закономерным. Собратья по цеху (многие из которых ревниво относились к его таланту) сделали, что могли, чтобы побыстрее уничтожить столь неудобного поэта. 10 января 1935 года Васильева был исключён из Союза писателей "за антиобщественные поступки" А 15 июля районный суд приговорил поэта к полутора годам лишения свободы «за бесчисленные хулиганства и дебоши» (драки с Алтаузеном и с Сергеем Васильевым, конфликт с Эфросом, пощёчина Наталье Кончаловской, будучи пьяным разорвал женщине платье и т.п.).
Теперь, увы, я падок до хвалы,
Сам у себя я молодость ворую.
Дареная - она бы возвратилась,
Но проданная - нет! Я получу
Барыш презренный - это ли награда?
Скудельное мне тяжко ремесло.
Заброшу скоро труд неблагодарный -
Опаснейший я выберу, и пусть
Погибну незаконно - за работой.
18 августа его отправили в исправительно-трудовую колонию, потом перевели в Таганскую тюрьму, а в ноябре этапировали в Рязань. В январе — феврале 1936 года писал поэмы «Женихи» и «Принц Фома». Закончил поэму «Христолюбовские ситцы». В марте 1936 года его освободили, но 6 февраля 1937 года вновь арестовали. В подвале Лефортовской тюрьмы написал свое последнее стихотворение:
Снегири взлетают красногруды...
Скоро ль, скоро ль, на беду, мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.
Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.
Я скажу тогда тебе, подруга:
"Дни летят, как по ветру листье,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши все..."
15 июля Павла Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Сталина. Его короткая жизнь завершилась 16 июля 1937 года во дворе Лефортовской тюрьмы. По воспоминаниям сокамерника, поэта несли на расстрел на руках. У него был перебит позвоночник, вместо одного глаза кровавая дыра в глазнице, переломаны пальцы на руках. Страшная, мучительная смерть... И она была тем страшней, что как будто стала расплатой за его необузданную энергию, за жадную тягу к жизни. Похоронили поэта в общей могиле № 1 «невостребованных прахов» Донского кладбища в Москве.
Кто приказал мне жизнь увековечить
Прекраснейшую, выспренною, мной
Не виданной, наверно, никогда?
Ты тяжела, судьба...
Через три года арестовали отца поэта, Николая Васильева. Он был виновен в том, что сохранял память о сыне и читал знакомым его стихи. За это он получил 8 лет лагерей – слишком большой срок для пожилого человека. Он умер в лагере и был похоронен в общей могиле.
Брат Васильева Виктор был арестован в 1942 году, якобы за чтение немецкой листовки, но родство с Павлом стало отягчающим обстоятельством. Остальных членов семьи Васильева выслали из Омска в места ещё более отдаленные.
20 июня 1956 года Павел Васильев был посмертно реабилитирован ВКВС СССР. 15 февраля 1957 года посмертно восстановлен в Союзе писателей.
О других представителях Серебряного века можно прочитать в сборнике "Серебряный век русской поэзии" https://author.today/work/377084
