На пересечении вероятностей: одиночный маршрут
Автор: Til WinterРецензия на рассказ Александра Калинина и Юлии Михеевой "Поезд в никуда"
источник: https://author.today/work/393346
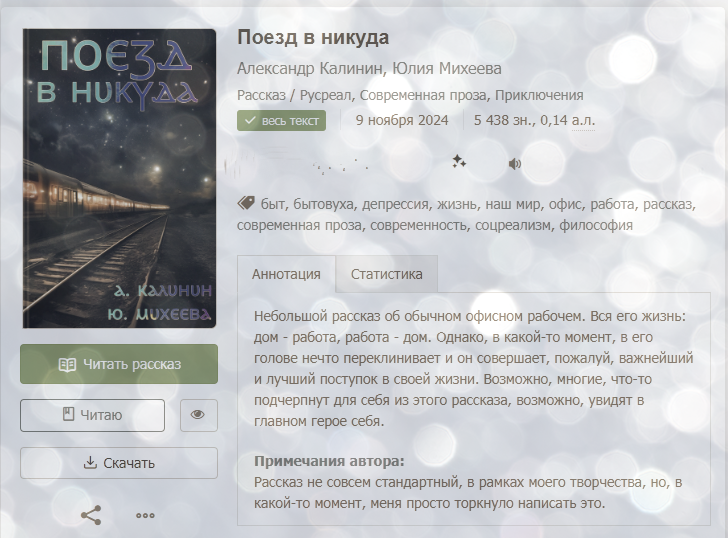
Образ поезда в русской классике был облюбован почти сразу, как только стал значимым явлением общественной жизни. У Льва Толстого его переосмысление отразило путь духовного одиночества гения, став точкой сборки мотива любви и гештальтов распущенности. "Крейцерова соната" и "Анна Каренина" в подаче этих внутренних коллизий, отразившихся на судьбах героев, и по подаче, и по идее почти диаметрально противоположны. Человек — явление социальное, и постоянство, будь то взглядов или установок, не есть достоинство, хотя и недостатком верность себе назвать сложно. Это данность, способная меняться или хотя бы имеющая предпосылки для этого. Не случайно деление периодов творчества имеет градацию: раннее, позднее. Видимо, выражение о том, что в воду нельзя войти дважды, больше относится не к физике природы, а к сознанию человека, все-таки меняющегося со временем. На трансформации образа поезда и использовании его для архитектоники сюжета в творчестве Толстого это отразилось очень значимо.
Однажды Эйнштейн сказал, что для его теории относительности больше дали не эксперименты и исследования коллег, а чтение произведений автора "Белых ночей". Сегодня, когда темы квантового авантюризма элементарных частиц позволяют вписаться в подвижность иллюзорного мира, пришло время физике подарить литературе некую свободу от ранее возведённых границ. Электрон в квантовой системе непостоянен, как ветреная девушка перед вторым свиданием. Явление вероятностного развития событий и мотив шанса, где реальный мир, в зависимости от точки восприятия, способен совместить в себе воду и масло, отталкиваясь от эффекта суперпозиции — хорошая подоплёка для демонстрации неповторимости и креатива. Литературные образы, как самые подвижные системы, связанные с текущим человеческим сознанием, могли бы стать той семиотической основой, которая позволяет элементарным частицам существовать в матрице логоса не в рамках классического поведения, а по законам вероятностного развития событий.
Такая возможность предоставляет авторам в каждом образе искать только свои отражения и ноты, обогащая язык и ментальное пространство художественной литературы. На волне новых научных и дерзких заявлений об отмене сингулярности, о существовании отрицательного времени, внутренние поиски авторов могут значительно углубить фундамент для создания виртуально-реальной данности существования материи.
Такое длинное вступление, которое уже больше взятого для анализа рассказа, стало необходимым, как предпосылка его оригинального прочтения. Поисковые запросы с набором слов "поезд" и "рассказ" на гора могут выдать несколько страниц с гиперссылками. Не задерживаясь на причинах популярности данного образа (хотя они недалеки от банальных физических процессов существования человеческого тела), хотелось бы найти то, неповторимое и самодостаточное авторское исполнение на примере прочитанного рассказа. И если "все счастливые семьи" так уж похожи друг на друга, может у неодушевленных образов есть шанс быть креативными явлениями, даже если они созданы по шаблону одного и того же ГОСТа. Ведь призвание литературы — давать вещам и персонажам новые одежды и сакральные смыслы.
Образ поезда на ассоциативном уровне расходится на два вектора. Если говорить о формальной физике процесса, то это мотив движения, ветер, запах солярки, грохот колёс и скрип тормозов, летящая картинка перед глазами, маршрут от точки А к точке Б и еще множество отвлеченных, но вполне конкретных в реальности величин. Второй уровень, связанный с этим железным монстром — элизиум внутреннего мира переживаний, делающий холодный металл дорогим и одухотворенным, как любимые тапочки или перчатки, ставшие частью жизни, а не просто вещами. Тема расставаний и встреч, искренних разговоров и неожиданных перемен, внутреннее тепло ожидания, трагедия катастрофы и усталость от летящего замкнутого пространства с иллюзией скорости всё это оттуда. И если вспомнить старика Эйнштейна, — всё это то сенситивное наполнение, которое средне начитанный потребитель литературы воспроизводит на внутреннем экране сознания, когда читает слово "поезд" не в графике на вокзальном стенде, а в заголовке рассказа или повести.
И мастерство автора можно определить именно по умению неординарно, глубинно пересечь эти два плана — внешний физический и внутренний ментальный. Название, дополняющее рассказ наречием "в никуда" как-то сразу отсылает к русским сказкам, любящим посылать своих героев в неизведанное. Почему туда — потому что там ментальное пространство больше, оно не ограничено как реальный адрес или направление, даже те же чёртовы кулички или кудыкины горы. Такой же прием использован и в заголовке рассказа, поскольку наречие "в никуда" имеет очень слабую фактологическую привязку, но сильное эмоциональное поле, сразу настраивающее на мотив разочарования, свободы одиночества, но при этом все-таки движения, а не стагнации. Если можно было бы воспринимать боль, как стигмат внутреннего движения или падения, то именно такое соединение "Поезд в никуда", как нельзя лучше подошёл бы для передачи этого смысла.
Эта неопределённость в соединении с экспрессией декаданса периода серебряного века поэзии позволяет вписать в широкое поле смыслов не только ассоциации читателя, не налагая на них трафареты конкретики, но и настраивает на некую внутреннюю волну сопричастности, именно благодаря этой семантической свободе наречия "в никуда". Читатель уже из названия понимает, что основной конфликт и сюжет будет вести его не по земным маршрутам, а по внутренним каналам переживаний. И если вернуться к заявленной теме физиков и лириков, то первая часть названия это, конечно, "эмцеквадрат" и классическая физика, а второе "когда б вы знали из какого сора" — свободное пространство квантовой запутанности и вероятностного плана, то, где чувства можно сравнивать, но невозможно подогнать под шаблоны.
В этой связке идейный акцент лежит на втором слове, и именно оно делает образ поезда не мчащейся громадиной по ветке дороги, а чем-то отражающем состояние глобальной трансформации, происходящей с огромной скоростью. В инерции буден человек меняется медленно. Быстро это происходит в момент трагических событий или радикальных перемен, когда сознание, буквально за несколько часов может перетряхнуть старую кладовку личных вечных ценностей и вырвать из под ног старые смыслы. На такое восприятие настраивает название. Пока писалось вступление, рассказ был не прочитан. Будет интересно узнать, насколько автору удалось с помощью "шапки" отразить основное содержание: сюжетом, образами, деталями.
После прочтения
Экспозиция, где герой рисует свой день, на удивление беспристрастная, даже можно сказать — намеренно бесцветная.
Мотив цикличности жизни напоминает неизбежность маршрута по рельсам. Временная разбивка — шесть утра, семь, восемь, полдень, час, пять, десять, — всего за пару предложений загоняет читателя во временной куб. И вот та свобода, о которой мечталось в заголовке, ограничена чем-то напоминающим либо таблицу морского боя, либо шахматный мини-билборд. Переосмысление такой подачи вызывает некоторые ассоциации, позволяя сравнивать распорядок дня с расписанием движения поезда по станциям. Это дает понимание о существовании некоей внутренней системы героя, которая похожа не на день сурка, а на схоластику простой информации, поданной почти без единого экспрессивного глагола или прилагательного. Речь скупая и сдержанная, как отчет о проделанной работе, она не позволяет выявить отношение говорящего к происходящему, что немного сбивает тот эмоциональный накал ожиданий, вызванный настроем заголовка.
Мотив зацикленности и однообразия подчёркнуто важен для рассказчика, поскольку он проявлен не только в содержательной, но формальной стороне. Так автор повторяет дважды некоторые слова и фразы и даже абзацы ("из раза в раз", "дом-работа"), которые ритмичностью могут напомнить стук колес летящего вагона. Но там однообразие — все-таки движение. В случае авторской интерпретации "дня сурка" это все-таки "стоп-кран". Интересна передача эмоции. Она не в слове, она в подаче и компоновке слов. То есть нельзя зацепиться за деталь, разве что за сочетание "день сурка". И эта внешняя бесстрастность при внутренней невербальной наполненности ощущением обречённости на повтор выглядит сильной позицией. Так иногда смыслы не проговариваются, а подразумеваются в надежде на сопричастность и понимание читающего. И вот в такой подаче и начинает работать наречие "в никуда". И появляется то, о чем писалось ранее.
Кризис сосуществования с системой рассказчик продолжает мотивом роботизации, делая противоположностью такие понятия как "жизнь" и "нерушимый алгоритм робота". В этой проекции неожиданно появляется тема денег, хотя, косвенно она выражена в понятии "стоимость". Причем, мир уравнен с героем, и они оба ничего не стоят. Это желание уйти из шкалы оценочности говорит о том, что герой либо страдает низкой самооценкой, либо сильно зависит от того, как его воспринимают со стороны. Такая подготовка к будущим действиям имеет шанс неплохо вписаться в массовую аудиторию, тоже страдающую от однообразия...Причина его в более жёстких рамках современной цивилизации.
Советский человек, если отвлечься от социального плана и явления диссидентства, был намного свободнее внутри, чем сегодняшние люди. Внешний уровень свободы расширился — можно связаться с любым живущим на земле в течении пары мину. Но внутренняя клетка сузилась алгоритмами идентификации, зашкаливающими по числу необходимых повторений. Интернет надоедает быстрее, чем библиотека со старыми зачитанными книгами. Он сужает внутреннее поле смыслов, выворачивая наружу в ожидании резонанса такие подвижные структуры сознания, как умение фантазировать и творить. Всё это выгорает на равнодушных простынях страниц белого неона. И слова трогают меньше, и события утюжат чувства.
Эпизод с детством и описанием несостоявшихся мечтаний, как прыжок в безопасную пропасть, приятная остановка на перроне с дореволюционными патриархальными бабушками, торгующими вареной картошкой, малосольными огурцами и пирожками. Побег во времени, в прошлое это детские картинки с яркими впечатлениями. Они слегка диссонируют формально. Там появляются живые эпитеты тропы, хотя и стандартные, но наполненные изнутри: "близкие друзья", "капелька радости". Но всё это мимолетное, как утренний ветер, быстро запирается троекратным повторением (опять ритм движения по рельсам) слова "работа" в разных морфологических формах.
После легкого отдохновения в нише детства и третьего рефрена-абзаца про распорядок дня, рассказчик, в виде внутреннего монолога — основного художественного приема повествования, осваивает тему "времени". Его, как и стоимости ("и я не стою ничего") тоже не хватает. Хотя о нём пишется уже третий раз с цикличностью цифрового ряда. Именно этот цифровой повтор сильнее остальных своей некоей изначальной эмоциональной пустотой ловит сознание читателя, уже подсевшего на волну разочарования из-за однообразия жизни. У цифр, если не говорить о нумерологии и кляссере личных значимых дат и событий, нет эмоциональности лексической окраски, только сумма коллективного бессознательного в виде трафаретов — вроде ряда цифры "7": нот, дней недели, цветов радуги. И вот в эту схему, чем-то напоминающую QR-код, рассказчик погружает читателя несколько раз по трафарету, а позднее — чуть чуть сменив алгоритм.
Нехватка времени дополняется мотивом бессилия и уже пробуждающейся, хоть и негативной по коннотации, экспрессией. Работа получает "ярлык" страдания (и если вспомнить архаизм "страда" - то такое определение имеет право даже с точки зрения этимологии явления).
Образ дорожной пробки, выбившей пробку инерции из героя, сошедшего с поезда однообразия, напоминает прием контраста. Но...Как-то очень картинно, что ли, как бог на веревочке в провинциальном театре выпрыгивает эта трансформация, обозначенная словом "толчок". Внутренний дзен, вызванный социальным явлением плохих дорог и развязок — мотив поезда на время отстраняет от сюжетной канвы. Хотя, изначально, по определению "в никуда" — тема стопора, втянутости в рутину, пробивалась оттеночно.
Авантюризм схода с круга инерции хорош в описании. Но очень труден и сложен в исполнении. Самое нерелевантное в рассказе в том, что речевая характеристика героя в переломный момент почти не изменилась. А это свидетельство того, что являясь частью матрицы слов, герой опять вернётся на круги своя, но сам факт "вылетевшей пробки" - соединяет два поезда, летящих в никуда:
а) поезд жизни, уставшей от поисков смысла
б) и реальный, на котором предстоит совершить побег
В финале рассказчик делает робкие попытки выскользнуть из сферы ограниченного лексикона героя, наделяя его такими же окатышами коллективного бессознательного, как бесстрастные цифры, штампами: "никому и никогда", "мне плевать", "получал удовольствие", "судьбоносный момент", "пылающего сердца". Герой поменял один сон на другой с небольшой анатомической разницей, где глаза: открыты/закрыты. И это, правда, очень похоже на "Поезд в никуда".
Деталь троекратного сплёвывания, описание поездки словами "усталого путника", последнее слово с незакрытым дважды знаком "?" и экспрессия в сочетании "вонючая жизнь", как бы отражают героя с той стороны, которая во время "сурка" была ему недоступна, но подспудно существовала. И здесь, образ монстра-освободителя, летящего по реальным рельсам, предстаёт в уже не в ментальном, а в физическом плане. А видимость свободы так напоминает неопределенную игру электрона, что кажется - вот оно освобождение. Но когда-то стоимость билета и конечная станция выгрузят пассажира наружу для другого, но тоже дня сурка. И в этом предвосхищении образ мчащегося поезда выглядит менее милосердно, чем вздох рефрена-абзаца "а утром всё начинается сначала".

