Озарение
Автор: Андрей Ланиус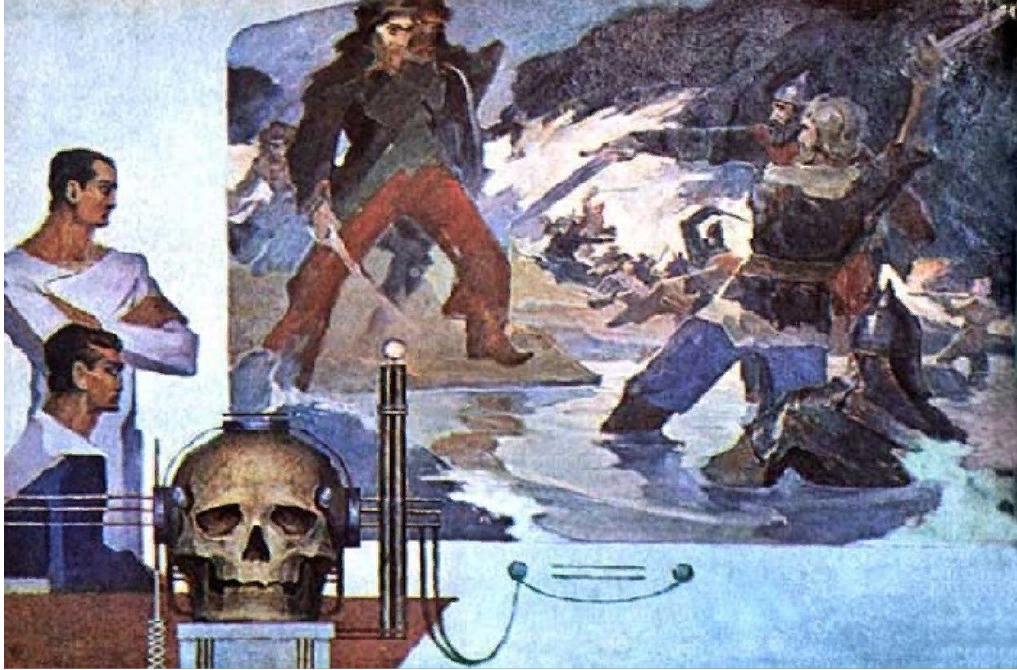
Роль случая в творческом процессе
Вся история науки буквально пестрит «подсказками» верного решения со стороны «господина случая».
Архимед, как известно, открыл свой знаменитый закон в тот момент, когда садился в ванну.
О яблоке, упавшем на голову Ньютона, сложены легенды. Менее известно, что под замечательную яблоньку Ньютона привела другая случайность. Великого ученого переполошили слухи о якобы надвигающейся эпидемии чумы. Вот тут-то впервые за длительный период своей отшельнической жизни он покинул Кембридж, переехав на время в деревушку Вулсторп. Здесь на него и упало яблоко, давшее толчок открытию фундаментального закона всемирного тяготения.
Нередко плотную завесу над тайнами мироздания приподнимает сон.
При этом вещие сны почему-то чаще всего снятся химикам.
Так, Менделеев впервые «увидел» периодическую систему элементов, обессмертившую его имя, именно во сне.
Точно так же, благодаря сну, выдающийся швейцарский химик Альфред Вернер понял, каким образом привести в порядок хаотичное нагромождение сведений о комплексных соединениях. Вот как описывает это его ученик Рихард Пфейфер:
«Со слов самого Вернера, озарение пришло к нему молниеносно. Однажды он проснулся в два часа ночи в состоянии крайнего возбуждения – явилось, наконец-то, решение, которое его мозг так долго и настойчиво искал. Он немедленно поднялся с постели, и к пяти часам вечера координационное учение в основном было описано».
Один из крупнейших немецких химиков-органиков Фридрих Кекуле сам признался в статье, опубликованной в серьезном научном журнале, что однажды задремал, сидя в кресле перед камином и глядя на пляшущие языки огня. И вдруг в тревожном сне ему явилась идея о циклическом строении бензола и многих других органических молекул, идея, над решением которой бились в те годы его коллеги.
В отличие от химиков, озарение к физикам приходило обычно в часы бодрствования, о чем, собственно, свидетельствуют примеры тех же Архимеда и Ньютона.
Вот еще несколько фактов.
Жюль Анри Пуанкаре, французский физик, математик и философ, осознал глубинную связь между теорией функции Фукса и неевклидовой геометрией в тот момент, когда поднимался в омнибус.
Макс Планк, немецкий физик, основоположник квантовой теории, почти мгновенно пришел к идее о кванте действия, наблюдая во время сильной грозы за вспышками молний.
Стремясь объяснить фактор случая в процессе познания нового, немецкий физик-теоретик, один из основателей квантовой механики Макс Борн писал о двух типах научных открытий.
Первый тип. В ходе накопления всё новых и новых фактов рано или поздно настает такой момент, когда количество переходит в качество, рождая принципиально новое положение, носящее характер закона. Тут случай играет второстепенную роль. Нередко открытия подобного рода делаются практически одновременно и независимо друг от другадвумя учеными или группами исследователей.
Так, чистый кислород впервые получили два химика, чьи лаборатории находились в разных концах Европы: швед Карл Вильгельм Шееле и англичанин Джозеф Пристли. Интервал составил всего-то около года. Шееле фактически был первым, но Пристли опередил его с публикацией результата своего опыта. Споры о приоритете не утихают до сих пор. Шведы считают первооткрывателем, естественно, Шееле, англичане – Пристли.
Похожую картину мы видим в области изобретения радио. В России пальму первенства безоговорочно отдают нашему соотечественнику А.С.Попову, который продемонстрировал первый в мире радиоприемник 7 мая 1895 года, а позднее, в 1900 году, получил за свое изобретение золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. А вот на Западе, особенно в Италии и США, изобретателем радио считают всё же Г.Маркони, который первым запатентовал свой радиоприемник, затем организовал акционерное общество, а в 1909 году получил Нобелевскую премию.
Впрочем, в науке бывает и так, что вопрос приоритета в похожих случаях отходит на задний план.
В 1662 году английский химик и физик Р.Бойль открыл один из основных газовых законов. Этот же закон, независимо от Бойля, открыл французский физик Э.Мариотт. Но на 14 лет позднее – в 1676 году. Тем не менее, закон Бойля – Мариотта увековечил имена обоих ученых, которые даже не были знакомы между собой.
Что касается второго типа открытий, то Макс Борн определил его иначе.
Имеющихся научных сведений еще недостаточно, чтобы возникла цельная, вразумительная картина: в ней по-прежнему остаются внушительные белые пятна. Для выстраивания логической цепочки явно не хватает важных звеньев. Эти недостающие детали могут быть восполнены лишь фантазией ученого, опирающегося на интуицию и предшествующий опыт, «озарением», толчок которому как раз и дает случай.
Здесь, как правило, не бывает изобретателей-«дублеров», за открытием всегда стоит величественная фигура бесспорного автора.
При этом сами авторы гениальных открытий, все без исключения, подчеркивают, что «озарению» предшествовала титаническая работа.
Ньютон: «Всё время думал об этом. Поэтому и открыл».
И в самом деле, яблоки падали на головы многим, но лишь Ньютон вывел из этого рядового факта универсальный закон вселенной.
Менделеев: «Ну, какой же я гений? Трудился, трудился, всю жизнь трудился. Искал, ну и нашел».
Эйнштейн: «Зачем столько слов? Я просто не отступал в своей работе. Вот и всё».
Итак, случайность – дело второстепенное и здесь. Главное – это трудиться. Счастливый случай выпадает лишь на долю того, кто неустанно работает…
Но не всё настолько однозначно.
Ведь существуют и «гении одной ночи».
Именно так назвал писатель Стефан Цвейг французского офицера Руже де Лиля, создавшего за одну ночь под влиянием вдохновенного порыва бессмертную «Марсельезу», ставшую национальным гимном Франции. Ни до этого, ни после де Лиль не написал более ничего примечательного.
Русскому поэту из глубинки Пете Ершову не исполнилось еще и двадцати, когда он написал «Конька-Горбунка», восхитившего Пушкина. Ершов прожил еще более трети века, много и неустанно творил – стихи, рассказы, очерки, пьесы… Словом, «трудился, трудился и трудился». Но ни одно из новых творений П.Ершова даже отчасти не приближается по качеству к его ранней сказке, написанной на одном дыхании, без малейшей натуги.
«Гениев одной ночи» больше всего, конечно, среди представителей искусства. Но встречаются они и в мире точной науки.
Французский химик, бывший фармацевт А.Балар, благодаря случаю, открыл в 1826 году новый элемент, названный позднее бромом. Только тем и прославился. В 1850 году Балар участвовал в конкурсе на замещение должности заведующего кафедрой химии во Французском колледже вместе с крупным органиком-теоретиком О.Лораном. Совет колледжа отдал предпочтение Балару, именно как первооткрывателю брома.
Коллега проигравшего конкурс Лорана – Ш.Жерар, возмущенный таким решением, воскликнул в сердцах: «Это не Балар открыл бром, а бром открыл Балара!»
