Разберизмы, чертёж №1: "Занимательная смерть", без похвалы Эразма
Автор: Алексей Мимоходов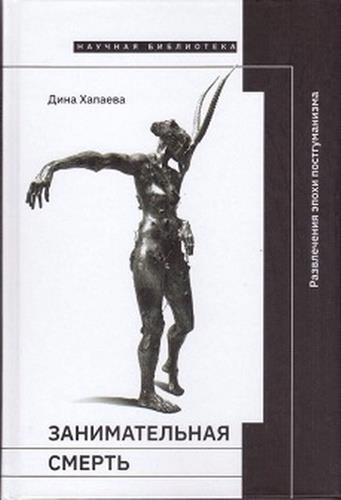 Книга на верстаке: «Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма» / Издательство: «Новое литературное обозрение», серия: «Научная библиотека».
Книга на верстаке: «Занимательная смерть: развлечения эпохи постгуманизма» / Издательство: «Новое литературное обозрение», серия: «Научная библиотека».
Автор: Хапаева Дина Рафаиловна (1963 г.р.) – историк (выпускница кафедры истории Средних веков ЛГУ, кандидат исторических наук) и культуролог, PhD. С 1991 г. сотрудничала с Кентерберийским университетом, позже – с Домом наук о человеке в Париже. Занималась переводами. До 2009 г. была заместителем директора Смольного института по научной работе. Вела курсы по историографии, интеллектуальной истории России и Франции, восприятию истории и эпохе Просвещения и её наследию. В настоящее время проживает в Джорджии, работает преподавателем в Технологическом институте; профессор русской кафедры Школы современных языков.
Предуведомление:автор книги придерживается либеральных взглядов и не скрывает этого, а потому, если вы не разделяете их, но всё же решитесь прочесть разбираемое исследование, постарайтесь отнестись к этой составляющей текста стоически.
Суть: «Исследование» посвящено, как нам кажется, не столько феномену танатопатии (завороженности смертью), сколько превращению, в рамках массовой культуры, смерти в товар. Тема актуальная: возьмите, например, современные детективы: в подавляющем большинстве случаев их история будет строится не вокруг кражи или загадочного случая – убийство будет её стержнем, а иногда и не одно. Автор разбираемой книги обещает представить максимально точную реконструкцию процесса превращения смерти из табу в «главное блюдо». В качестве виновников и шестерёнок механизма подобного превращения он называет философов французской школы, транс- и постгуманистов, зоозащитников. Но, как можно судить по тексту работы, главными преступниками против человечества оказываются писатели-фантасты: Дж.Р.Р.Толкин и Г.Лавкрафт, В.Пелевин и С.Лукьяненко, Стефани Майер и, конечно же, Джоан Роулинг.
Разборка:
1. Внешняя критика (по форме) не приводит к выявлению значимых недочётов: структура исследования в общих чертах соответствует классическим требованиям, благодарности присутствуют, во введении автор приводит результаты историографического анализа, указывает, что он изучает; в основной части работы значительную долю своих положений подкрепляет либо цитатами из работ коллег, либо цитатами из разбираемых произведений, главы разделены на подпункты и заканчиваются промежуточными выводами; заключение суммирует поглавные выводы; литература в завершающем работу списке по большей части «не первой свежести» (новые исследования (5-6-тилетней давности) занимают малую его часть – их всего одиннадцать (порядка 4,5%)), но список изначально подаётся не как исчерпывающий, а как, своего рода, рекомендательный – будем считать, что автор отаргументировался. Таким образом, по форме работа более или менее укладывается в рамки научно-популярной книги.
2. Огрехи в переводе незначительны, как нам кажется: в глаза бросилась лишь несостыковка в терминологии («чёрный туризм» один раз называется «тёмным», а «Иные» (привычный термин из «Дозоров») в одном месте переведены как «Другие»). Можно ещё добавить, что во введении некоторые предложения кажутся мутноватыми, но тут на объективность не претендуем.
3. Внутренняя критика (по содержанию) даёт куда менее радужные результаты:
А) исторический анализ состояния исследуемой проблемы охватывает, если так можно сказать, историю человечества только с XIV до XXI века, причём крайне (!) эпизодически; ни выбранный период (смерть как явление культуры появляется значительно раньше, а значит, и эволюция отношения к ней должна быть прослежена на протяжении всей известной нам истории человечества), ни подробность (в своей работе автор пытается реконструировать развитие «товаризации» смерти в Америке и России, но сосредотачивает своё внимание только на эпидемиях, революциях, гражданских и мировых войнах, и на современном положении дел) восторгов и одобрения не вызывает. Хотелось бы видеть более подробный и основательный анализ.
Б) разбирая работы писателей-фантастов, автор достаточно вольно обращается с цитатами и интерпретациями: например, Толкину (работа «Критики и чудовища») с помощью вырванной из контекста цитаты и прямой, а не с учётом этого самого контекста, интерпретации вменяют в вину преклонение перед чудовищами, хотя в статье, из которой вырвана цитата, Профессор, анализируя поэму о Беовульфе, указывает на то, что в сознании средневекового поэта, уже познавшего христианство, прежний – языческий, – и новый – христианский, – миры сплелись в причудливую вязь, а чудовища, которые критиками воспринимаются как нечто лишнее, вполне могут являться осью произведения, поскольку поединок с ними – «отродьями хаоса», или, в христианской традиции, «дьявольскими порождениями» – и есть главная задача и главная цель любого героя, даже если заранее известно, что хаос сильнее.
В качестве ещё одного аргумента, «подтверждающего» поклонение Профессора чудищам, автор приводит результаты анализа «Властелина колец» – произведения, где людям, фактически, нет места, а главные роли отданы «чудовищам»: хоббитам, эльфам и прочим нечеловекам, которых фантаст-человеконенавистник посмел сделать положительными персонажами! Не удивляйтесь: автор стоит на гуманистических (то есть – эгоистических, не лично, но по отношению к своему виду) позициях, согласно которым все, кто не человек – чудовища. И если Толкин посмел сделать их лучше людей – то он явно ненавидит человечество!
Аналогично, по всей видимости, по вырванным из контекста и интерпретированным вне контекста цитатам (искренне надеемся, что автор не автоматическим поиском пользовалась при их подготовке), критикуются Лавкрафт (который, безусловно, создаёт «готическую» атмосферу, погружает читателя в миф-кошмар, но влюбиться в его чудовищ?!.. По поводу обвинения в том, что он, как и Толкин, превратил своих героев из «субъектов» в «еду», всё не так очевидно, но, в любом случае, Лавкрафт на этом пути не первопроходец: человечество задолго до него знало немало историй о том, как человек становился пищей и себе подобным, и зверям, и чудовищам), Пелевин (этот автор виновен в написании «Empire V», где главным героем выступает вампир, нередко бросающий на людей взгляд со своей колокольни), Лукьяненко (естественно, за «Дозоры…», а конкретно – за «Ночной дозор», где герой пару раз признаётся в том, что он рад, что он не человек, и пьёт кровь, как вампир). И выдвинутые автором «исследования» претензии кажутся вполне обоснованными. Если вы не знакомы с разбираемыми произведениями, конечно.
В) Стефани Майер вынесем в отдельный пункт, поскольку в отношении «Сумерек» (а заодно и «50-ти оттенков…») мы не может не признать правоту автора разбираемого труда: всё-таки, как нам кажется, произведение явно представляет образ вампира в розовых тонах. Конечно, в основе своей кровосос Майер – это «крутой плохой парень», мафиози-новый русский, у которого вместо пистолета – клыки, но факт остаётся фактом: любительницам поиграть с огнём писательница угодила. Поспособствовало ли это превращению смерти в товар, как утверждает автор – судить не берёмся, уж извините.
Г) Джоан Роулинг тоже вынесем отдельным пунктом, не столько из любви к её главной саге, сколько из-за того, что автор разбираемого исследования посвящает анализу «Гарри Поттера…» львиную долю книги. Но, несмотря на объём, приёмы разбора остаются примерно теми же, что и в предыдущих случаях; добавляется лишь один – использование фанатских теорий. Мы ничего не имеем против фанатов, даже если они «подкованы в психологии», или пишут исследовательские работы (и ставят диагноз герою произведения на основе художественного текста), – трактовки цикла могут быть очень остроумными, – но тащить эти трактовки (например о том, что Поттер – сумасшедший, совершивший все преступления, приписываемые им Волан-де-Морту) с форумов в книгу, выходящую в серии «Научная библиотека» (и не посвящённую анализу такого рода сообществ), это как-то даже не смешно, если честно.
Зато в ходе разбора этой, завершающей, части становится очевидной главная проблема книги: автор нарушает первое правило исследователя – он с самого начала создаёт модель (вчитывая в текст своё видение, а не вычитывая из него материал для анализа), а потом подменяет объект исследования этой самой моделью, получая на выходе ложный положительный результат: Поттер – вампир, дело закрыто! Зачем так делать? Естественно, кроме как в погоне за сомнительной славой «срывателя покровов».
Мы можем предположить, зачем: перед нами не книга-исследование, а книга-агитка. Автор обеспокоен, автор, вероятно, обеспокоенный популярностью «Сумерек», бьёт тревогу, автор убеждает нас в том, что всё плохо, что вампир становится главным героем нашего времени. В ход идут вырванные из контекста цитаты, подходящие измышления коллег и «подкованных» читателей, и повторение, повторение, повторение одного и того же тезиса: смерть человека становится товаром, человека не уважают, общество загнивает, человек должен быть в центре мира, человек должен быть мерилом всего, всё – ради вида! Создаётся впечатление, что современный гуманизм (обретший корни и в «Задаче трёх тел», например) пришёл, чтобы оправдать человека, а по сути – выписать ему пожизненную индульгенцию.
Конечно, когда гладят по головке – это приятно, но непоротое поколение редко когда оказывается достойным.
Вывод: Перед нами не столько научно-популярное сочинение, сколько агитационный трактат, автор которого не особенно придирчиво подошёл к доказательству выдвинутого им тезиса. Как результат, потенциально интересная тема осталась, по сути дела, в тени беспочвенных построений.
К прочтению НЕ рекомендуем.
