Рецензия на роман «Книга первая. Апостолы.»
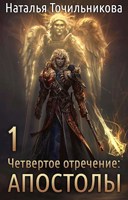
Особенность «Апостолов» - то, что книга существенно меняется по мере продвижения от начала к концу. Стартует она как ироничный интеллектуальный роман, но к финалу становится сложнее, мрачнее и ставит перед читателем очень непростые вопросы морального выбора. По моему мнению, это однозначный плюс. Однако такое развитие дает непредвиденный (скорее всего) эффект. Те технические решения, которые в начале книги выглядели не багом, а фичей, оказываются неспособны поддерживать на нужном уровне достоверности усложняющийся текст и вступают в конфликт с содержанием.
Сильные стороны книги сразу же привлекают внимание. В ней создан совершенно нестандартный параллельный мир, в котором победило католичество, а инквизиция действует до сих пор. Святые в этом мире бессмертны, и это позволяет вывести в романе реальных исторических лиц и героев мифов.
Сюжет строится на религии, причём в основу положено не только христианство, но и другие крупные (и даже не очень крупные) религиозные течения. Эта тема подаётся со знанием дела и со множеством любопытных деталей. Можно узнать что-то новое или просто взглянуть на знакомые верования с другой точки зрения.
География книги обширна и охватывает европейские страны и Восток, причём писались эти пейзажи явно с натуры. Виды зарубежных диковин весьма достоверны, но бросается в глаза, что в тексте фигурируют именно популярные, туристические места. Это, впрочем, соответствует сюжету – герой чаще всего и чувствует себя туристом, не успевая, да и не стремясь глубже проникнуть в быт очередной посещенной страны, зато уделяя много внимания интересным историческим фактам.
Первые дни в Риме я усердно работал туристом и осматривал достопримечательности. Рим — город развалин. Больше всего меня поразила их кирпичность. Даже Колизей только облицован камнем, да неровная каменная кладка в недрах толстенных кирпичных стен. Вероятно, для прочности. А так даже полы выложены кирпичом. Елочкой, как паркет. Кирпичи длинные и плоские, как лепешки. Странно. Кирпич почему-то казался мне современным материалом. Хотя... «И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести». Вавилонская башня. Сразу после Ноя.
Внутри Колизея установлен крест как напоминание о мученичестве первых христиан, впрочем, не имеющему к данному месту никакого отношения. Сии безобразия происходили в основном в цирке Нерона, где сейчас Собор Святого Петра.
Обремененный лишними знаниями, я не стал предаваться религиозным сантиментам.
В романе немало юмора – вернее, сдержанной иронии, нередко требующей от читателя хотя бы базового культурного багажа.
– Какой пафос, Иоанн! Тебе надо писать.
– Да, я знаю...
Несмотря на сцену ареста героя в первом же эпизоде, начинаются «Апостолы» вполне оптимистично. Первая глава грамотно и естественно демонстрирует читателю мироустройство и создаёт конфликт, но тут же благополучно его разрешает. Творятся чудеса, Лубянку сносят по примеру Бастилии, а (предположительно) господь бог предстает в образе симпатичного хипа.
– Вон он твой спаситель! – я посмотрел туда, где еще полчаса назад была Лубянка. Высокий человек в простой белой рубашке и джинсах что-то прибивал к небольшому деревянному столбику. Я направился к нему. В воздухе еще стояла пыль от обрушенной Лубянки, а слева от нас строительным краном снимали с постамента памятник Иосифу Волоцкому. Солнце уже склонялось к закату, а с востока медленно наплывала лиловая грозовая туча, предостерегающе посверкивая еще беззвучными молниями. На табличке красовалась надпись: «Здесь танцуют!» Я улыбнулся.
Повествование в начале книги катится легко и как-то необременительно, не требуя от читателя ни усилий, ни эмоционального подключения. У меня сложилось впечатление, что автор, делая упор на лёгкость и ироничность, сознательно отказался от технических приёмов, позволяющих увеличить достоверность текста и добиться погружения в него читателя. Здесь вовлечения не происходит. Образ главного героя намечен условно – этакий усреднённый программист с духовными запросами, невольно вызывающий в памяти пелевинских персонажей. Никакого бэкграунда у новоиспечённого апостола Петра нет – ни работы, ни увлечений, ни родственников, друзей, девушек… Показан только его интерес к религии и мистике, плюс изрядная образованность. Естественно, сопереживания, отождествления или отторжения такой образ не вызывает – в него просто не заложены эмоции.
По мере развития сюжета будет развиваться и герой, и оставленное пустым эмоциональное поле заполнится сомнениями и страхом. В финале Пётр уже намного более живой и достоверный, чем в начале.
Остальные персонажи намечены ещё более условно – это уже после, в процессе взаимодействия, у них будут возникать и проявляться характеры.
Отсутствие личности влечёт за собой и отсутствие мотивации – герои делают то, что нужно автору. Но эта проблема решена очень изящно. Поступки персонажей объясняются тем, что они не могут, да и не хотят противиться божьей воле, и потому подчиняются всем решениям Эммануила, как загипнотизированные.
– От него такие флюиды исходят, что люди идут за ним, сами того не ожидая. Он Бог, и это не метафора, – продолжал я. – Чудеса творит, но это ничто перед ним самим – он самое удивительное чудо.
Якоб смотрел с сомнением.
– Сомневаетесь? Это нормально. Я тоже сомневался, пока не увидел. Увидите – кончатся все сомнения. Пойдете за ним, забыв себя, семью, работу, планы и амбиции. Не вы первый – не вы последний. Сколько уже таких было! Он лечит безнадежных и поднимает мертвых. Я был арестован инквизицией, и он освободил меня. Наступает новая эпоха – эра Христа. Это второе пришествие. Вы еще не поняли?
(Эта цитата хороша ещё и тем, что здесь достоверно воспроизведена речь вдохновенного сектанта-неофита).
Опять же, по мере развития личностей героев у них возникает и собственная мотивация – и тогда решения Эммануила выполняются уже не столь беспрекословно. Но, на мой взгляд, в некоторых сценах поведение героев выглядит нелогичным и неоправданным, а объяснение «это божья воля» больше не действует. Кажется, что в таких местах конфликты возникают для того, чтобы подтолкнуть сюжет.
– Ты слышал, как оскорбляют Господа, и ничего не предпринял? – вдруг вмешался Марк. – Только повторяешь чужие оскорбления!
Мой друг явно нарывался на неприятности. Нет, я его прекрасно понимал. Конечно, аудиенция назначена нам, а Господь не обращает на нас внимания и битый час слушает разглагольствования этого сноба, который только и умеет, что молоть языком.
– Марк, – медленно проговорил Эммануил. – Если уж ты решил быть моим псом, то хотя бы слушайся хозяина. Помолчи!
– Нет, – возразил Варфоломей. – Я говорю то, что должно, а меня обвиняют в неверности. После такого обвинения любой уважающий себя самурай делает сэппуку⁸.
Общий стиль книги – довольно-таки лаконичный и сжатый. В приоритете описаний – действия, затем – визуальный ряд и только в последнюю очередь – мысли и эмоции героя.
Этот ход также кажется мне совершенно сознательным, поскольку с художественностью у автора явно всё в порядке – временами в книге встречаются замечательно красивые и необычные описания:
Войска двинулись дальше на юг. Мы видели туманные горы, цепи, закрывавшие горизонт, как наложенные друг на друга силуэты, вырезанные из цветной бумаги – чем ближе, тем темнее. На склонах рос чайный куст, в долинах – влажные бамбуковые леса, а дальше, по склонам пологих холмов, как кривое зеркало, испещренное трещинами, или крылья гигантского насекомого, раскинулись бесконечные рисовые поля.
Большая часть таких описаний относится к, условно говоря, «дневнику путешественника», и они неизменно хороши, ярки и ироничны. Настолько, что на фоне этих фрагментов начинает явно проигрывать основная часть повествования. Приведу для сравнения два отрывка из одной главы:
Сражались на копьях. Тонких и полосатых, красных с золотом. Небесные воины окружили Зеленую Змейку и бросали в нее копья. Она изящнейшим образом подпрыгивала и отбивала копья руками и ногами. Воины ловили и бросали снова. И над сценой летали красивые полосатые палки, украшенные пушистыми розовыми хвостами, вероятно, для лучшей летучести.
И второй:
Туго пришлось всем. Апостолы могли только держать оборону, не более. Слишком много противников на каждого. Остальные были отрезаны или побеждены. Признаюсь, мне стало страшно. Неужели все это так бесславно кончится! Похоже на то. Филипп не был мастером меча, удивительно, как он вообще держался. Марк угрюмо отступал, теснимый молодым даосским воином, очень тонким и проворным. Круг медленно сужался. Только Варфоломей, казалось, сражался почти на равных. Он был явно быстрее своего врага, но слабее физически.
Здесь я изменила порядок цитирования: в тексте вначале идет битва апостолов с даосами, затем, безо всякой эмоциональной отбивки – посещение героем Пекинской оперы вечером того же дня. Первое, что бросается в глаза – «битва» на сцене оперы имеет чёткий визуальный ряд, вплоть до упоминания цветов. Реальная битва выглядит куда более условной. Здесь нет ни цветов, ни конкретных деталей, всё строится на общих фразах: «круг сужался», «отрезаны или побеждены», «сражался почти на равных». Ритм в обоих фрагментах одинаков, хотя смертельно опасная для героя ситуация должна бы вызывать большее напряжение, чем просмотр спектакля.
В итоге в посещение Пекинской оперы веришь без тени сомнения – словно увидел всё собственными глазами. В бой с даосами поверить не получается. Тем более, что сомнительно, чтобы люди, впервые в жизни взявшие в руки меч, сколько-нибудь продержались против профи, да и отдельные детали этой битвы смущают:
Первым среагировал Варфоломей. Он выхватил катану и встал на пути высокого даоса. Рядом возник Марк. Потом Филипп и Рыцари Стальной Розы. Они стояли спиной к спине, защищая Господа.
Встать на пути врага – это понятно. Лицом к нему, спиной к защищаемому. Но – спиной к спине? И драться боком? Да и сам бой не кажется оправданным. Он был начат словно бы авторским произволом, для остросюжетности, и прерван, как только опасность стала грозить герою, после чего даосы принесли присягу как миленькие. В целом сцена неубедительна – и то же самое можно сказать о многих других моментах.
В начале текста с этим легко смириться. Игра и не требует большой достоверности. Но чем дальше, тем резче становятся противоречия. То, что в первых главах было весёлым жонглированием забавными ситуациями, историческими фактами и шутками, становится постепенно пугающе правдивым, напрямую касающимся читателя. Теперь он уже отождествляет себя с героем, уже разделяет его сомнения и вместе с ним пытается найти выход. Настроение книги меняется очень сильно.
И я вспомнил, как все начиналось. Мое освобождение, площадь с табличкой «Здесь танцуют!» и Господа с молотком и гвоздями в еще не осевшей пыли. Неужели не прошло и года? А кажется – целая жизнь. Определенно, Господь тогда был другим, лучше и светлее. А потом как-то все пошло не так, не в ту сторону, что ли. Может быть, он становился все менее человеком? Что-то давно он не сотворял глинтвейна, не играл на флейте и не прибивал на площадях прикольных табличек... Теперь он только приказывает и шутит редко и зло. Или это у меня от обиды? Умирать очень не хочется, знаете ли. В таких случаях приличные люди составляют завещание, но я уже скоро год, как не принадлежу себе. И все, что мое, принадлежит Господу.
И здесь уже явным диссонансом звучит любая нелогичная, непродуманная деталь – а их немало. Перед читателем ставятся большие, настоящие проблемы. Книга заставляет задумываться о таких вещах, о которых, рискну предположить, размышляет далеко не каждый человек.
– Истина страшна. «Бог есть любовь!..» Любовь к кому? К убитым первенцам египтян, к детям, посмеявшимся над пророком? К кому еще? Альбигойцы считали дьяволом Бога Ветхого завета.
На фоне такой глубины выглядит абсолютно недостоверной и фальшивой история, например, похищения Петра. Он лежит на дне заливаемой волнами лодки, но ни словом не упоминает, что промок. Простояв двое суток на тонкой дощечке, связанным и с петлёй на горле, жалуется только на голод и нехватку воздуха. Свободно действует руками, которые всё это время были стянуты. Герой снова делает то, что нужно для развития сюжета – и чувствует только то, что удобно автору.
Интересно, что, несмотря на эти натяжки и условности, за героя всё равно переживаешь, и выбор, который ему предстоит сделать, не становится менее драматичным. Но, наверное, было бы лучше, если бы сопереживание возникало не вопреки сюжету, а благодаря ему.
В итоге впечатление остаётся двойственным. Идея книги - сильная, оригинальная, романом ставятся большие и серьёзные вопросы. Воплощение - более условное и поверхностное, чем эта идея заслуживает. Не возникает ощущения цельности, единства формы и содержания. И это, на мой взгляд, отвлекает от целей книги и мешает их полному достижению.
__________________
Рецензия написана на платной основе, подробности тут: https://author.today/post/59197
