Рецензия на роман «Скованный Прометей»
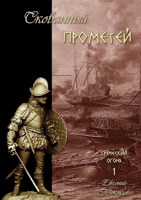
Попаданчество с двойным дном.
Откуда можно попасть в Античность? Если полагаете, что из современности, то ошибаетесь. В Античность можно попасть из Возрождения – причем не одному, а целым военно-морским флотом. Так сказать, массовое попаданчество.
К веслам прикованы пленные московиты, поэтому можно говорить про попаданчество с двойным дном: московиты попали в рабство на европейское судно, которое в свою очередь попало в Античность. Лихая история, не правда ли?!
Но поговорим о самой книге, у которой два бесценных достоинства.
Первое – грамотный язык. На всем протяжении романа я заметил отсутствие одной запятой! Правда, за исключением некоторого количества опечаток (склеенные или, наоборот, разделенные на части слова) – но эти бросающиеся в глаза опечатки возникли, скорее всего, при конвертировании текста в формат fb2, так что на счет автора не относятся. В общем, грамотность близка к идеальной.
Второе достоинство, посерьезней, – это исторический сеттинг. Автор пользуется многочисленными историческими терминами весьма естественно. Особенно морскими терминами – также обозначениями холодного оружия, но это более традиционно. Не возьмусь судить, насколько употребление старинной терминологии корректно, но для меня уровень головокружительный.
Возможно, пару раз автор перебарщивает – кто не без греха?!
«Немезида» по дуге начала удаляться от Контарини, а на него налетела другая афинская триера. Удар в нос оказался неудачным. Таран проскочил мимо форштевня «Веры», а стэйра врезалась в обрубок шпирона. Моряки на обоих кораблях не удержались на ногах. Триеру начало разворачивать борт о борт с «Верой». Испанцы торопливо перезаряжали аркебузы, бабахнул фальконет, щёлкнуло несколько арбалетов. Афиняне ударили стрелами и дротиками. Затрещали вёсла.
— Кошки! — крикнул Контарини.
Солдаты зацепили крюками борт триеры, начали подтягивать её и вот уже родельерос бросились на приступ.
— Сантьяго!
Их было больше, чем афинян и уже через пару минут на катастроме, боевой палубе, всё было кончено. Испанцы принялись резать гребцов. Траниты и зигиты выбирались наружу между опорами катастромы и прыгали в воду, а таламитам, сидевшим в самом нижнем ряду повезло куда меньше.
Но, учитывая, что весь роман написан в подобном ключе, вживление в историческую плоть ошеломляющее.
И тут мы переходим ко второй части рецензии, в которой все не так оптимистично, потому что двумя названными пунктами достоинства романа исчерпываются. Говоря русским языком, все остальное плохо и очень плохо.
Стиль весьма неровный, что свидетельствует о неопытности автора. Несколько раз он нащупывает отличную интонацию… Вот, к примеру:
Всякий знает, что полуостров Пелопоннес напоминает Посейдонов трезубец. В южной своей части он вонзается в море тремя огромными выступами, средний из которых оканчивается мысом, носящим имя Тенар.
Место это довольно мрачное. Путешественникам здесь показывают пещеру, ведущую прямиком в Аид. Именно из неё в стародавние времена Геракл вывел трёхглавого пса Кербера. Время от времени находится дурень, желающий проверить правдивость этих рассказов, но со времён великого героя больше никто этим путём в подземное царство не проник. А если и проник, то назад уж не вышел.
Нащупывает и тут же теряет, излагая дальнейшее, как Бог на душу положит.
Но самый большой недостаток – неумение связно изложить историю.
В конце концов, ради чего читаются книги? Ради того, чтобы ознакомиться с чьей-то историей – вымышленной, но от этого не менее будоражащей разум и чувства. А если автор неспособен изложить историю: постоянно сбивается с мысли, отвлекается, сосредотачивается на малозначащих вещах, перепрыгивает с темы на тему, затягивает повествование, – кому такой рассказчик нужен?!
К сожалению, автор «Скованного Прометея» всем этим грешит. В частности, имеет большие проблемы с темпоритмом: одни эпизоды неоправданно длинные, тогда как другие столь же неоправданно короткие – что особенно заметно в начале романа. Фокал скачет от главных героев к второстепенным, не имеющим на сюжет особенного влияния. Описания морских сражений вроде бы и подробные, но ощущение, будто читаешь учебник истории, а не художественное произведение. Время от времени кажется, что автор копипастит исторические источники, не обращая внимания на сюжет: словно голову теряет.
Проведем простенький психологический эксперимент. Вот отрывок – прочитайте его.
Тем временем Гикет призвал на помощь карфагенянина Магона и тот занял Сиракузы огромным войском. Коринфяне удерживали только Оргитию. Сам Тимолеонт находился на севере Сицилии, вскоре он получил подкрепления из Коринфа. Пожилой стратег всё равно по числу воинов значительно уступал противнику, однако боги вынули для него счастливый жребий: Магон поддался подозрениям, будто нанятые им эллины намереваются предать его и перейти к Тимолеонту. Не вняв уговорам Гикета, который пытался доказать мнительному карфагенянину, что дела обстоят совсем не так, Магон неожиданно для всех посадил войско на корабли и отбыл в Африку. Без его поддержки Гикет очень скоро потерпел поражение и Сиракузы освободились от тиранов. Тимолеонт разослал гонцов, дабы они повсюду призывали сиракузян-изгнанников возвращаться на родину. Город снова ожил, а Тимолеонт взялся за других сицилийских тиранов.
А теперь попробуйте пересказать.
Смогли? Я – нет, и не уверен, что после десятого прочтения смогу. О Зевс, из какого пыльного фолианта это извлечено? И, самое главное, зачем? Гикеты и Магоны в сюжете отсутствуют напрочь – зачем они здесь???
Еще – из того, что автор вытворяет на свою голову, – отмечу флешбеки не к месту, картинки не к месту (на кой черт здесь планы морских сражений?!) и несовместимый с основной интригой фантдоп. Военно-морской флот переносится в Античность, во времена Александра Македонского, посредством того, что ГГ заколдовали в результате проигранной шахматной партии (которая, представьте, приложена в виде шахматного этюда). Но в Античности обходится без игры в шахматы и фэнтезийного колдовства, поэтому фантдоп, с моей точки зрения, следует признать неудачным.
Про персонажей вообще молчу: автору, поглощенному исторической детализацией, не удалось сочинить ни одного живого персонажа, ни одного естественного диалога – во всяком случае, я таковых не заметил. Психологичности в романе не больше, чем в этой картинке:
Очевидно, что психологичность – не сильная авторская черта: здесь даже перспективы никакой не просматривается, настолько все плохо. Если изложению сюжета можно обучиться – дело наживное, – то обучиться индивидуализировать персонажи…
Впрочем, если автор проникнется идеей, что книга исторической правдой не ограничивается, что в ней желательны живые люди, а не марионетки, – возможно, все и получится. В следующий раз. А если не получится, не смертельно: воочию вижу автора, сочиняющего увлекательные исторические монографии.
