Рецензия на роман «Сказаниада»
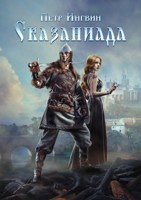
Меня сильно смущает то, что в этой рецензии придётся отступить от своих принципов. Я стараюсь не только ругать, но и хвалить, даже если в целом книга не понравилась – обычно в тексте можно найти хоть что-то хорошее. На сей раз стану только ругать. Впрочем, можно отметить, что у «Сказаниады» грамотный язык – но это совершенно не означает, что он литературный.
Будут спойлеры.
Мне уже доводилось писать о двух книгах Петра Ингвина, и обе меня впечатлили. Некоторые моменты в них вызывали несогласие и желание спорить, но это означает, что книга цепляет за живое и заставляет задуматься, что идёт ей в плюс.
«Сказаниада» действует совсем иначе. Вместо того, чтобы натолкнуть читателя на верные мысли, она пичкает его готовыми выводами, и делает это чересчур настойчиво. Вся книга служит одной идее: жизнь как в сказке возможна только тогда, когда человек строит её собственными руками. Мысль замечательная и правильная, но она убивает всё остальное. В текст привносится неприятная назидательность, а мир и герои не живут – они обслуживают идею.
Сюжет не следует внутренней логике событий, а развивается по прихоти автора. Выходит живо и разнообразно: попадание героев в другой мир, попытка отравления, обучение бою на мечах, разбой, похищение невесты, война, плен, плавание на кораблях туда-сюда, общение с богами, смертельная дуэль. Но увязываются события как-то кривовато.
К примеру, глава местной мафии Соловей, ставший ненужным для сюжета, убирается из романа довольно нелепым образом. Герой затевает с ним спор, требуя отпустить на войну - отбивать у врагов свою невесту Елену. Соловей уверяет, что это бессмысленно: герой в одиночку не справится, а Елену отобьёт и вернёт Кощеево войско. Спор переходит в поединок, главного мафиози в самый драматический момент убивает свалившимся с неба роялем в виде чужой стрелы. Герой, подумав, приходит к выводу, что в одиночку не справится, а Елену отобьёт и вернёт Кощеево войско, и никуда не едет.
Роялей в романе вообще многовато. У них есть формальное оправдание: все эти вовремя убивающие врагов стрелы и небесные молнии организует некое высшее существо – исполняющий желания и питающийся надеждами вампир. Но стилистически это проигрышный ход. Книга насмехается над логикой сказки, включающей поиск невесты с помощью пущенной в небо стрелы, хождение на войну за подвигами и славой и переодевание девушки в мальчика. Эти традиционные сюжетные ходы «Сказаниада» сталкивает с суровым реализмом, показывая их несостоятельность в настоящей жизни. И одновременно пользуется не менее условными сказочными приёмами для того, чтобы подталкивать и натягивать сюжет. Нужных людей сводит случай, спасение приходит с неожиданной стороны и в последнюю минуту, даже отрицательный герой самоубивается прямо на глазах у своей жены, удачно освобождая её тем самым от опостылевшего брака. Всё это создаёт ощущение двойных стандартов.
Кстати, для юмористической книги здесь слишком много убивают. Хотя это, наверное, дело вкуса.
Мир романа не прописан: это условное сказочное пространство, которое читатель, как зритель шекспировского театра, должен представлять себе по табличкам «лес», «изба», «море», установленным на сцене. Соответственно, мир вышел типовым и усреднённым. Запоминаются только отдельные яркие картинки вроде острова богов или нелепой лесной избушки с двуспальной кроватью.
В детали автор вдаётся лишь тогда, когда рассматривает предметы быта, чаще – оружие.
Сапоги из мягкой кожи снялись легко, но сначала пришлось повозиться с мятыми наколенниками — изнутри обитые тканью, они крепились жесткими ремнями на застежках, причем застежки заклинило, их пришлось ломать. С налокотниками проблем не было, хотя им тоже досталось изрядно — посеченное железо искривилось, подкладка порвалась. Сверху на них, видимо, крепились метательные ножи, сейчас держатели пустовали. Зато два ножа нашлось за голенищами: один обычный, с деревянной рукояткой, второй — длинный и узкий, без рукояти, больше похожий на заточку. Резать таким невозможно, режущей кромки нет. Значит, тоже метательный.
Получается интересно, демонстрирует владение предметом – но на фоне общей усреднённости и условности мира эти описания смотрятся яркими заплатками. Создаётся впечатление, что автору важны только отдельные детали, но совершенно неинтересны лес, морской берег, деревня или царский дворец. Пристального взгляда они не заслуживают. Это, конечно, тоже дело вкуса, но текст теряет гармонию и соразмерность.
Не выдержан баланс между сказочной условностью и реализмом – повествование бросает то в одну крайность, то в другую. Так, Елена до крови изранила босые ноги во время бегства по лесу – но на следующий день даже не вспоминает о них, спокойно шагая по городской улице. В то же время детально прописаны подробности естественных отправлений в сложных условиях – в них реализма даже многовато.
Язык, которым написана книга, крайне неудачно сочетает в себе пафос и канцелярит. Причём это касается не только авторской речи. Временами в книге делается попытка придать каким-то героям речевые характеристики – некоторые персонажи выражаются в «простонародном» стиле. Но так повезло, если я не ошибаюсь, исключительно фигурам третьего ряда, возникающим на одну-две сцены в сюжете. Остальные герои изъясняются всё тем же «авторским» стилем, будь это попаданцы, крестьяне, разбойники или цари.
Прежде, чем привести пример, уточню: все эти цитаты взяты из прямой речи героев. Так они разговаривают друг с другом.
Георгий: «А если до моего возвращения вы предпримете неразумные действия, вы станете моим личным врагом».
Соловей: «Егорий Храбрый — это не личность со своими заботами и стремлениями, а воплощенный во временно взятом человеке образ справедливости этой местности».
Бермята: «Душа рвалась от боли и тоски по потерянному счастью…»
Котеня: «По пути помогал уставшим и немощным, чтобы собраться с мыслями и выявить самое важное».
Старик-паломник: «Сегодня мы приехали молить богов посодействовать, чтобы он покаялся и остался на родной земле».
Кощей: «Я принял меры: объявил, что правоту буду выяснять на открытом суде с привлечением свидетелей из всех сословий».
Елена: «Его царство разрушено, множество людей погибло, стало инвалидами и сиротами».
И так далее. При этом эмоции героев на стиль их речи не влияют. И паникующая мать, и перепуганный подросток (оба – необразованные крестьяне) объясняют ситуацию толково, чётко, исчерпывающе, скупыми фразами без лишних слов – словом, так, как почти никогда не изъясняются настоящие живые люди.
Выглядит это крайне странно, и цель такого стилистического решения мне непонятна.
Персонажи книги в основном взяты из сказок, но при этом всё свалено в одну кучу. Отрицательный герой оказывается Данилой-мастером (на сей раз ничего не мастерящим) и сыном мельника (тем, которому не досталось мельницы), отцом Красной Шапочки и зятем Яги (она же – старуха из сказки о Золотой рыбке). Вероятно, это сделано для достижения комического эффекта и введения в текст большего количества сказочных сюжетов. Однако оставляет скорее ощущение хаоса и недоумения: за что так с Данилой-то? Превращения в пьяницу, домашнего тирана и убийцу бажовский герой не заслужил.
Впрочем, ни в чём не повинному Гомеру досталось ещё больше. Автор походя проехался по нему так, что остаётся только глазами хлопать: что это было? Что Гомер сделал автору, который вывел его в таком неприглядном виде?
Оглянувшись на конницу, Данила повернул голову дальше к берегу и на миг замер: в сторонке на глаза попался человек, который с войной ни капельки не вязался. Неуклюжий, в белой рубахе, заправленной в нелепые синие штаны, без оружия и с такими глазами, будто жабе на зад наступили. Он удобно устроился около ближайшего корабля в переносном кресле и собрался любоваться войной, словно это придворный турнир на приз дракона. Кожа странного человека отдавала болезненной желтизной, из лысины торчали несколько волосинок, коричневая щетина вокруг рта делала лицо похожим на злодея с детских каляк-маляк.
С характерами персонажей дела обстоят ещё более печально. Для начала, главные герои книги, Георгий и Елена – традиционные (в плохом смысле слова) попаданцы. Этот типаж избит настолько, что рано или поздно я перестану возмущаться по его поводу и буду равнодушно сообщать, что в романе имеет место быть popadanets vulgaris, родства не помнящий, друзей не имеющий и ни по чему в оставленном мире не тоскующий. Кроме бытовых удобств и сахара – но ещё бы по ним не тосковать.
Такой вид попаданца наиболее удобен и прост в использовании, поскольку не требует прорабатывать биографию героя. Прежняя жизнь Георгия и Елены намечена буквально несколькими штрихами.
Но и после того, как начинается действие, характера как такового не возникает. Автор просто сообщает: герой такой-то и такой-то. Поверить ему может только тот читатель, который не даёт себе труда задумываться самостоятельно и сопоставлять факты.
Больше всего досталось Елене. Поразил момент, где Георгий размышляет о ней:
Елена никогда не поступила бы как Лада и не сказала таких слов. Елена была другой. Водоворотом. Карнизом скалы над пропастью. Салютом, стрелявшим во все стороны. Дом, когда в нем находилась Елена, превращался в шапито, все сверкало и куда-то двигалось, вешалка мнила себя театром, а фарс дрался с комедией за право именоваться драмой.
Красивый образ – но лично я ничего такого не видела. За время жизни Елены с Георгием на болоте, в избушке с двуспальной кроватью, о женщине сообщалось, что она «милая, теплая, знакомая до каждой родинки», что к раненому относится «по-матерински», затем у неё возникло желание нравиться, появились «вычурные позы и дефилирующая походка».
Потом Елена впала в уныние и тоску:
Время от времени Елена жаловалась на отсутствие привычных вещей и удобств. «Разве это жизнь?» — говорила она, обводя избушку, лес и речку потускневшим взором.
Пока герой приключался, Елена занимала абсолютно пассивную позицию, а в конце нашла своё счастье с Кощеем, которому пересказывала сериалы. Здесь она превращена в окончательную дуру, которую во время массовой казни интересует только одно: «Как же я теперь без служанки?»
Ни одного эпизода, в котором Елена проявила бы себя как помесь салюта с водоворотом, я в тексте не нашла. По мере развития сюжета она всё больше и больше теряет привлекательность, становясь скучной клушей.
Ещё интереснее характер второй героини, о которой Георгий рассуждает так:
Лада. Простая, чистая, самоотверженная. Прекрасная в своей естественности — даже когда устала как сейчас. Рассудительная и ответственная. При этом решительная и отважная. Нежная и робкая. Безоглядно искренняя. Заботливая. Неравнодушная. Иногда шаловливая. Скромная и трудолюбивая. Ошеломительно мужественная при бесконечной женственности. Проницательная. Кроткая всегда и страстная, когда дело касалось близких. Добрая и доверчивая. Тактичная и великодушная. Верная. Надежная как якорь — его тоже нельзя сломать, можно только потерять или утопить.
В этой оде собраны, кажется, все возможные положительные качества – без оглядки на то, что доверчивость противоречит проницательности, а решительность и отвага – робости. Когда это удобно герою, Лада кроткая, когда надо – страстная. Идеальный характер.
Главный герой и вовсе поражает воображение. Не стану касаться того, что попаданец в короткий срок становится воином и народным героем – здесь мы как раз имеем дело с высмеиваемым «Сказаниадой» законом сказки. Намного больше удивляет внезапно прорезавшаяся в Георгии привычка поучать окружающих. Нередко при этом рефреном звучит «мужчина должен», и постоянно в высказываниях присутствует категоричность и даже некоторая агрессия в отношении слабаков и неудачников.
«Дело мужчины — создать для ближних приемлемые условия, чтобы не выживать, а именно жить. Чтобы чего-то достичь, нужно ломать себя и обстоятельства. Постоянная ломка себя в конце концов приводит к тому, что со стороны кажется несгибаемостью».
«…невозможного для настоящего мужчины не существует».
«Слабые духом заменяют им [словом «невозможно»] одно из трех других: «трудно», «долго» или «неохота».
«Делай, что должен, и будь что будет. По-иному мужчина не может».
«Я бы сказал, что неимение желаемого означает отсутствие у человека целеустремленности. Давно известно: победитель говорит «сделаю», неудачник — «постараюсь», то есть первый ищет возможности, второй — причины для оправданий».
Многофункциональная Лада послушно восхищается мудростью героя, но читатель невольно задаётся вопросом: где он такого набрался? Возможно, в новом мире, пройдя испытания и поняв что-то важное о жизни? Нет, по словам Георгия, этим принципам его научили в армии.
И здесь самое время вспомнить завязку романа. С чего началась эта история? С того, что настоящий мужчина Георгий пожелал себе денег, славы и секса.
Он прав, Георгий намерен стать узнаваемым писателем, для этого нужны качественные серьезные произведения — такие, чтобы заставляли задуматься, подталкивали к добру и после прочтения не оставляли изжоги. Надежда при этой цели — чтобы на улицах узнавали, деньги рекой текли, и, пока не встретил ту самую сказочную любовь, женщины штабелями в постель укладывались.
И к этой высокой цели Георгий, который «всегда за справедливость», отправился достойным методом: приобретя у нечистой силы роман, чтобы выдать его за свой собственный и выставить на литературный конкурс. При этом чужое произведение герой скромно именует «доставшимся по оказии». Ведь «идей, чтобы участвовать, у Георгия не было» - а о том, что «…невозможного для настоящего мужчины не существует», он, кажется, временно забыл.
Словом, Георгий со своими поучениями для «настоящих мужчин» сел в лужу. А для главного героя это не есть хорошо – если, конечно, он не осознал ошибок и не исправился. Но Георгий совершенно не осознаёт, что его слова и дела противоречат друг другу.
Говоря о противоречиях, не могу удержаться и не упомянуть ещё один забавный эпизод, в котором Георгий поучает девушку:
«И боги сказали правду: когда не знаешь что делать — слушай маму. Впрочем, всегда слушай, даже когда знаешь что делать. Что бы ты ни совершила, через много лет поймешь, что права была именно она».
«Тогда пойми же, наконец, что мама всегда права. Она все знает лучше, просто не обо всем с тобой говорит. Потому что тогда ты посмотришь на нее другими глазами, а она этого боится».
Не нужно даже выходить за пространство романа, чтобы напомнить: материнство не имеет прямой связи с высоким интеллектом и не гарантирует умения принимать верные решения. Оставим в стороне матерей, которые неумны, не желают добра своим детям или просто нездоровы психически – к сожалению, в нашем мире такое случается. Но даже внутри книги мы встречаем, например, Ладу, которую мама, всё знающая лучше, выдала в пятнадцать лет «за человека, которого прежде в глаза не видела», бездельника и пьяницу, избивающего её и дочь. И, кстати, впоследствии едва не отравившего тёщу. Сама же Лада отправляет дочь к бабушке, веля отнести ей отравленные пирожки – и только чудом она и дочь не становятся пособниками убийцы. Мама всегда права?
Кстати, несколько раньше Георгий советует Еремею: «Родителей нужно слушать, но слушаться ли — в каждом случае дети решают отдельно». И, на мой взгляд, герой слишком часто меняет своё мнение.
Все эти поучения и категоричные высказывания изрядно раздражают, герои со сменными характерами не вызывают сопереживания, рояли делают сюжет надуманным и недостоверным. В итоге в эту историю я просто не поверила. Да, здесь верная идея, но при её воплощении сделаны все возможные ошибки, и у меня не осталось ощущения, что эта книга хотя бы немного «подтолкнула меня к добру».
__________________
Рецензия написана на платной основе, подробности тут: https://author.today/post/59197
