Рецензия на роман «Сказаниада»
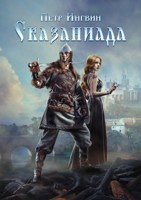
Прочитала я аннотацию — и обрадовалась: родное почувствовала. Потому что и сама написала роман о попавших в сказку. Нравится мне этот сюжетный приём, хотя и не нов. Да и интересно же, как другие к этому подходят.
Единственно, в аннотации смутило «о Святом Георгие». Ну, бывает, из серии «энциклопУдия».
По мере прочтения выяснилось, что аннотация обманула — там не только Илиада и Святой Георгий. Неет, там и русские сказки, и скандинавский эпос, и вообще — всё-всё-всё. Включая лягушек и серых волков. Правда, японских сказок не замечено (а у меня вот есть, да), да и прочих восточных не очень. Так явно же продолжение намечается, ещё попадут герои...
Сразу скажу — читалось с определённым удовольствием. Но злодейство обязывает, да и периодически что-то царапало. Так что к финалу подошла с подсознанием, изодранным в клочья. И вот как раз об этих колючках, крючках и не у места торчащих гвоздиках и порассуждаю.
Отступлю от стандартной схемы и начну с жанра. Создалось впечатление, что автор так и не определился с тем, что же он пишет: сказочное попурри, приключения/боевик или философскую притчу. Математическая философия в финале со своими X, Y, Z ошеломила. И даже не выпадением из жанра, а лёгкостью обращения с математикой: если не нравится одна переменная — Бог — мы её просто уберём. Да ещё, вопреки идее романа, разъясняющего разницу между хотелками и мечталками, смысл жизни приравнивается к цели. Огорчило.
Финал вообще расстроил, но об этом потом.
Сначала о простом, о логике повествования и характеров. Как ни странно, особых возражений не вызывает, не считая мелких замечаний. В основном — по логике сеттинга.
Сын мельника женился на дочери покойного адмирала? Пусть даже почему-то обедневшей? Верится с трудом.
У дамы в результате длительного бега босиком по лесу образуются мозоли? И ранки? Именно «ранки»? Подозреваю, что автор ни разу в жизни не наступал на сосновую шишку. Вот вспомнила печальный опыт, и ах поплохело.
Больше всего напрягло отрывочное представление местного населения об окружающем миру. Здесь знаю, здесь не знаю, здесь селёдку заворачивали... Например, со скандинавами активно контактируем, в курсе привычек и обычаев, а вот «Один» слышим как искажённое одИн, и Валгалла тут же, воспринимаемая как Вал Галы. Был бы это пейзанин из дикой деревни — не вопрос. Но Борис-то — сын правителя. С образованием. И, раз уж наследник — то и политическим. Именно здесь вполне работоспособная схема по изменению привычных имён собственных ради антуража и юмора дала сбой. И всё потому, что фокал не тот оказался.
С латынью — тот же вопрос. Что, один итальянец в стародавние времена забрёл, рукопись оставил, и всё, вымерла нация путешественников, мореходов и торговцев? Понятно, что здесь логическая ниточка к итальянскому языку Елены, за это — плюс. А вот за латынь — жирный минус. Ну хоть китайский бы сделали. Или японский. Могла бы Елена быть преподавательницей японского?
Сюжет — хорош. Динамично — с поправкой на длинноватые философские перебивки, весело, неожиданно. С массой эпизодов из серии «вот это поворот!». Вот сущностей — многовато. И, на мой вкус, некоторые — лишние. Понятно, что автор узелочки на сюжетных ниточках аккуратно вяжет. Жирный плюс за то, что нет ни одной провисшей. Но — вот та же трактирщица-лягушка. Понятно, что она идёт парой с Еремеем, который с луком невесту ищет. Персонаж (Еремей, на лягушка)- дивный, вписывается в сюжет идеально, и без лягушки был бы не хуже.
Чисто авторская линия о паломничестве на Олимп — супер! Вот здесь — идеальная пропорция действия и размышлизмов. Она настолько хороша, что в общей массе выглядит огромным куском белого трюфеля в миске с винегретом — вполне съедобным.
Временами казалось, что сюжет сейчас свалится в ЛитРПГ — настолько быстро герой собирал абилки и лут — но удержался. На грани. Но удержался.
Идея. Идей много, все они взаимосвязаны и интересны. Правда, некоторые в сюжет вставлены насильственно. С подробными разъяснениями там, где читателю лучше бы самому догадаться — намёка бы хватило. Периодически хотелось завопить: — Не тупая, дошло уже!
Из особо впечатливших:
Начальная декларация «встречей двух любящих сердец сказки должны заканчиваться, а не начинаться». Сразу создаётся нужный настрой для восприятия.
Очень хороша промелькнувшая мысль «сволочь предпочтительнее фанатика»
«Оказавшись в сказке, мы перестаём считать её таковой». Человеческая психика пластична, и это хорошо показано, в динамике. И читается великолепно.
Ещё идея — как следует жить, чтобы сказку сделать былью — разжёвывается настолько подробно и иногда не к месту, что начинает раздражать.
И, главная идея, разделение понятий желания, надежды и цели — это класс.
В комплексе все эти посылки мысль пробуждают, что, по нынешним временам — большая редкость.
Герои. Ощущения смешанные. Котеня и несчастный Еремей показались более живыми, чем сладкая парочка героев. Котеня — вообще полный восторг. А основные герои, хотя и неплохи, но временами ощущаются как функции, призванные излагать и демонстрировать авторские идеи.
Елена, с единственной тайной мечтой — о сладкой жизни — вызвала стойкое отторжение. А после описания внешности Кощея почему-то возникла ассоциация с известным банкиром и не менее известной журналисткой.
Баба Яга удивила слабостью обоснования характера. Куда адмиральское наследство делось-то? Пропила-проиграла? На это намекает падение из бочки в пьяном виде? Тогда дочку и подороже можно было бы продать. «А из зала кричат — давай подробности!» 
Диалоги. Не восхитили. Ощущение, что за всех персонажей говорил автор. Соловей вообще изъясняется пассажами из учебника по политтехнологиям: «воплощённый во временно взятом человеке образ справедливости». Уууу!
«Вы считаете меня легкомысленной» из уст деревенской девчонки? Только чтобы ответом ГГ ещё одну аллюзию прицепить? Явный перебор.
Язык. Автор — мастер. Нужно очень хорошо чувствовать язык, чтобы создать пары Троя — Двоя, яхта — тыхта, Олимп — Олин пик, Кася — Кассандра и всех прочих. Борис-Парис — тоже хорошо, а для непонятливых ещё и разъяснялку с Гомером дали. Странно, но я по Гомеру в одном из рассказов потопталась с тех же позиций, что и автор. Ну, все умные люди...
Так, дальше по языку и мастерству. Иногда это мастерство хорошо бы немного обуздывать. Игра слов — это здорово, но до определённого предела. И авторский глаз постепенно замыливается, перестаёт отличать отличное от, как бы это помягче сказать, вот, от менее отличного.
И этой, менее отличной, группы — гомельский крысолов. Перебор. С петросяновским душком. Да автор ещё и обул крысолова в пеньковые лапти при вполне достойном остальном прикиде. Пеньковые лапти — не выше престижностью, чем лыковые. Их плели из обрывков и очёсков как домашнюю обувь. А тут человек из самого Гомеля притащился.
Да и сама глава сильно из обще канвы выбивается. Потому как внезапно скатывается в политическую сатиру.
Общее впечатление — тоже смешанное. Но ближе к позитиву. Главно — не было скучно. Узнаваемость персонажей радовала (почти всегда).
Порадовал Дракон, который — должность. И потому, что здорово, и потому, что в моей сказке Василиса Прекрасная — тоже должность. Ну, про умных людей я уже говорила 
Порадовали и язык (если забыть про «разбросанные по земле конечности»), и великолепные описания. Очень выверенная структура и завязанные узелки. Это — большой труд. Оценила, потому что у меня самой всё время что-то провисает и приходится возвращаться, чтобы хоть как-то подвязать или прибить винтиком/привинтить гвоздиком.
А вот финал разочаровал неимоверно. И половину удовольствия уничтожил. Я не про финал-финал с намечающимся поцелуем в диафрагму, а про предфинальное разъяснялово.
Подозреваю, что здесь, как и в случае с игрой слов, автора подвело стремление к совершенству. Послушайте, у вас — сказка. И вы своими руками эту сказку разрушаете лишней, чужеродной для сказки сущностью — зелёными человечками таинственными предками. Ладно, если бы по ходу сюжета хоть парочка намёков проскользнула бы. А тут — бац!
Нет, сама по себе идея с предками, технологическим златом/серебром, яйцом-медицинской капсулой не так уж плоха. Но не из этого романа. Получилось какое-то всеобщее разоблачение с последующим раздеванием. И — всё, кирдык, сказка с её наивной и очаровательной поэтикой умерла. А ведь могла бы жить, если бы — см. предыдущий абзац.
Лапу к этому убийству приложил и Валентино. Так хорош был тупой неудачливый Еремей, и, на тебе, и он — марионетка. Обидно. Хотя линия вампира — отличная. И идейно, и структурно.
Крайне похвальное завязывание всех-всех сюжетных ниточек в конце стало напрягать своей избыточностью и демонстративной аккуратностью. Как будто автор ужасно боится, что у читателя вдруг фантазия проснётся. Так ведь это (жалобно) — сказка. Дайте же попридумывать и помечтать. А обрывочки можно и в продолжении связть. И читателя порадовать — вот, мол, какой я умный, догадался. Или воскликнуть: — О, никогда бы не подумал!
Так что основное, что мешает восторженному восприятию — избыточность. И сущностей, и литературных приёмов, и стилистических изысков, и жанров. Мне кажется, что при некотором их сокращении — или, наоборот, аккуратном вплетении в ткань повествования — текст получился бы более гомогенным. И не раздражала бы мешанина не всегда сочетающихся вкусов, которые сами по себе, отдельно друг от друга — хороши.
Итог. Как пишет мой любимый ресторанный критик, могло бы получиться нереально вкусно, а так — лишь вполне съедобно с отдельными всплесками удовольствия.
