Рецензия на роман «РОЖДЕНИЕ БОГОВ II. Иллюстрированный роман»
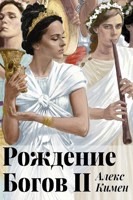
День добрый!
Вторая книга из серии «Рождение богов», автор Алекс Кимен.
Честно говоря, если помните, то читательский вывод, предположение после прочтения первого тома было, что история Алексиуса закончилась крахом и все его прогрессорства канули в лету, а его подружка-зазноба Пандора так и ничего не поняла и не сделала никаких выводов… Ну как бы текст подводил меня таким выводам. Однако, я оказался не прав.
И автор нашел тут очень интересные сюжетные ходы и показал во втором томе отличную трансформацию персонажей.
Ну, обо всем по порядку.
Сюжет.
Часть Первая.
«Что такое свобода? Отсутствие границ и пределов? Или лишь возможность выбирать, куда поставить ногу, чтобы сделать следующий шаг по бесконечному пути в вечность?»
В этот раз текст состоит из трех частей. Но в этот раз части не сильно отличаются по содержанию, более того, изначальный статус, взятый в первом романе, восстанавливается: Алексиус – снова раб, Пандора – снова госпожа. Причем минус всей темы – обрыв прошлой части и действия персонажей в итоге происходят довольно резко: персонажи расстаются, а в новой реальности уже не спешат восстанавливать отношения. Первая часть повествует об осаде города Потидеи афинскими войсками. Тут Алексиус знакомится с Сократом и повторно с Алкивиадом. Изобретает требучет. Пандора выныривает в соседнем городе - Сане и знакомится там с Фриной и с тем же Алкивиадом. Вскоре наших героев судьба против из воли сталкивает снова. Потидейцы делают вылазку и сжигают к лешему требучет, а Алексис попадает с тяжелым ранением в импровизированный госпиталь, куда устраивается добровольцем Пандора. Вот никак не ожидал, что они встретятся подобным образом. Реакция у обоих была следующей:
Пандора:
«…замерла и прикрыла глаза, пытаясь совладать с охватившей ее дрожью. Наконец девушка справилась с нахлынувшими чувствами. Она попыталась придать своему лицу максимально равнодушное выражение и обернулась»
Да! Переволновалась жутко! Вот когда женщины и вправду любят, они примерно так и волнуются. Боятся самих себя.
Алексиус:
«Леша никак не мог поверить, что вновь встретил Пандору. Мешала постоянная тошнота и застилающая разум острая боль в затылке. Это казалось наваждением, миражом, не более чем обманом зрения…»
А у этого волнения происходят как у мужчины: бросают не в дрожь, а как раз в задумчивость и размышления. Когда Алексиус бредил, то просил Пандору «присниться ему еще раз». В общем, наши герои снова нашли друг друга в самом конце первой части и поняли, что судьба их будет сводить всю жизнь.
Заканчивается первая часть заговором жителей Саны против афинян, который раскрывают наши герои. Больше никаких прогрессорств, кроме требучета не было.
Вторая часть.
«Лишь обретя полную, настоящую, абсолютную свободу, ты неизбежно постигаешь пугающую истину: свобода — это ответственность.»
Начинается вторая часть с логичной капитулярии Потидеи, крепко побитой требучетами. И мне понравилось, как вполне по-взрослому реагирует на нее наша героиня:
«Беззащитность… Именно это чувство охватило Пандору. Она глядела на испуганных жителей Потидеи, навсегда лишившихся домов, сбережений и родины, и ей становилось жутко.»
Кроме того она стала понимать, что за добро нужно платить добром, независимо от того кто это сделал (пусть хоть грязный раб или даже гетера). Как интересно изменилась наша Пандора? Могло ли такое с ней случится в первом романе? Думаю, что нет.
Далее, показан пир, что закатила по случаю победы Фрина, а на нем Алексиус объясняет Алкивиаду и Сократу принципы познания и свободы личности. Это называется философское прогресорство. Затем происходит забавный эпизод, когда влюбленная в своего раба Пандора, с помощью эликсира Фрины пытается соблазнить Алексиуса. Напряжение нарастает, нарастает, нарастает… и… Алексиус крепко вдарив этого эликсира читает Пандоре стихи Пушкина, но атаковать не решается. Мда… Жестко. Но мне понравилось! Видимо такой путь не подходит нашим героям.
Вскоре против Алексиуса возбуждается дело о святотатстве (кто-то испортил изображение Гермеса) и ему грозит суровое наказание, но он изобретательно находит выход. Он покупает кобылу Астеропу и на ней Пандора выигрывает гонки в Афинах, победив там даже самого Алкивиада. К слову на Астеропе узы, седло, стремена и шоры – все как полагается современной скаковой лошади. Город в изумлении и шоке, а наш герой объясняет стратегам преимущества рыцарской конницы. Вскоре после этого происходит то решающее событие, которое читатели цикла ждали примерно 20 АЛ,
«…Глаза Пандоры покрылись поволокой, она зажмурилась и растаяла в его руках. Наконец их губы встретились, и мир вокруг исчез…»
Мда! Наконец это свершилось. Даже не верится. Наши герои познали друг друга. Пройдя сквозь три года знакомства и две игры «хозяин-раб», а также десятки опасностей и перипетий и сотни разговоров и взаимных упреков... Но это свершилось! И даже эликсира не потребовалось. Вот она настоящая любовь!
Третья часть.
«…И чем больше твоя свобода, тем больше ответственность. Абсолютная свобода — самое страшное испытание, которое может выпасть на твою долю...»
Третья часть оказалась довольно короткой и там будет больше прогрессорств, чем в предыдущих двух. Осада Олинфа, которую ведет Алкивиад благополучно, завершается победой афинян, но вот только почему-то нашему герою, Леше… от этого становится только хуже. А потому что афинский стратег показал себя в финале романа… ну примерно так, как я его представлял по книге Плутарха, почти один в один. Но к счастью спасся (нашелся) отец Пандоры – Тофон.
Как показаны исторические персонажи в романе?
Алкивиад (в истории):
Целеустремленный, алчный и абсолютно эгоистичный человек. Образец классического «вечного антагониста». Предававший и продававший всех и каждого. При этом очень одаренный и талантливый человек, отличный полководец услуги которого всегда стоили очень дорого и которому прощались даже предательства. Был стратегом, а родился в аристократической семье Клиния, а воспитан лично Периклом.
В романе:
Как ни странно автор нашел в этом персонаже и много положительных черт. Он довольно сентиментален, мечтателен и помогает людям. Например, тому же Алексиусу или Пандоре. Алкивиад показан в романе очень молодым и видимо еще не испорченным до конца человеком. «Интересные» черты характера этого персонажа (завистливость, гордыня и беспринципность) проявляются только в самом конце второго тома. Автор тут удерживает серьезную интригу. Далее, в романе Алкивиад почему-то указан «всадником». Тут у меня вопрос к автору, а не спутал ли он с Римом? У греков практически не было конницы (она считалась варварским родом войск), а уж подобного сословия… раньше не слышал. Его отец был стратегом, но не «всадником».
Фрина, историческая:
Действительно ее имя – Мнесарета. Но в романе это имя не указывается вообще. Пелопоннесская война (431 - 404 гг. до н. э.) шла за 40 лет до рождения Фрины (390г. до н. э.), но автору захотелось поместить этот персонаж в среду своего романа. Отличалась необычайной стыдливостью: общественные бани она не посещала, одевалась в плотные, а не прозрачные одежды, прикрывала волосы, прятала запястья, да и мужчин наедине предпочитала принимать в темноте. Женщина, обладавшая мощной харизмой, и умевшая чувствовать мужчин. В поздние годы этакая снисходительная матрона, устраивавшая свои гуляния к морю во время Посейдоновых мистерий. Этакая матрона. Но вопрос та ли это Фрина? У Аполлодора указывается две гетеры с таким именем, одна – носила прозвище «Печальная улыбка», вторая — «Золотая рыбка». Которую именно имел автор в виду? Ни одного из этих прозвищ в романе не нашел. Надеюсь, что автор раскроет, кого он имел в виду.
В романе:
Это сложный персонаж, что любопытно, показана колдуньей (эпизод с голубями), довольно толковой интриганкой и циничным человеком. Оказывает покровительство Пандоре на начальном этапе. Умеет изготавливать зелья. Что любопытно, Пандора пугается когда слышит ее прозвище «жаба» (Фрина), но воспринимает слово «Фрина» как имя, а не как прозвище.
— Фрина? — невольно переспросила она. — Жаба?
И сразу же хороший момент фактажа:
«— Понимаешь… Такие девушки стараются выбирать себе подобные имена, чтобы не вызывать людскую злобу и не гневить духов»
Именно так! Все верно.
Вообще внесение этого персонажа в текст – наиболее спорный момент по множеству причин. Но лично я отнеся к нему как читатель спокойно. И мне даже понравилось, как автору удалось раскрыть столь противоречивый персонаж в своем произведении.
Сократ, исторический:
В быту неприхотлив и простоват в общении. Постоянно в задумчивости. По отзывам современников, он не был выдающимся оратором, но был безукоризненным полемиком. Был очень скромным человеком, как в быту, так и в общении с людьми.
В романе:
Позабавило, как начале второй части на его имя реагирует Пандора:
«Пандора осторожно кивнула.
— Да. Дядя Анит жаловался на него отцу и говорил, что Сократ — пустоголовый брехун, сбивающий своими россказнями молодых людей с толку»
Ну, в принципе «так оно и было», именно это ему и предъявляла аристократия. Возраст Сократа по тексту примерно 40-45 лет, что соответствует истории. В романе показан первоклассным оратором и мудрым человеком:
«Сократ продолжал плести паутину слов, увлекая слушателей. Сил сопротивляться его логике и аргументам уже не оставалось, хотя рассуждения его становились все удивительнее и неожиданнее.»
О трансформации авторских персонажей.
Алексиус.
По началу кажется, что совсем не изменился, такой же мечтательный и инфантильный как в первом романе. Но затем характер начал проявляться. Алексиус стал считать ходы людей, выверять свои поступки с самой ситуацией и много размышлять, а не спешить с «нагибаторствами» или «прогрессорствами». Стал замечать, что многие его изобретения не помогают людям, а как при осаде Потидеи, подвергают сочувствующих ему дополнительному риску. Изменилось и его отношение к Пандоре. Он перестал ее поучать, как в первом романе, а поначалу даже боялся и избегал (сцена в госпитале). Мне показалось, что Алексиус повзрослел и его шаги уже не юношеский максимализм, а именно подход человека среднего возраста. Видимо история с сожжением виллы в Македонии не прошла даром.
Пандора.
Тоже серьезно выросла, и трансформировалась. Теперь это не эгоистичная маленькая избалованная девочка, все время думающая о пророчествах и богах. Весьма интересно, что она в первой части пошла работать в госпиталь к раненым, примерно как Скарлетт о' Хара. А кстати, еще интересно и такой вопрос к автору, а не был ли персонаж Маргарет Митчелл прообразом Пандоры? Многие черты совпадают, и темп взросления – тоже. Характер Пандоры серьезно поменялся в лучшую сторону, но это моральная трансформация, а не физическая. И она серьезно влюбилась в Алексиуса, даже попросила у Фрины зелье обольщения ради него. И тут еще важны и многое другие мелкие детали взросления Пандоры. Она стала бережлива, внимательна к своим словам. Научилась любить. Поборола собственный эгоизм. Ее трансформация во втором томе намного серьезней, чем у Леши.
И еще конечно удивило отношение автора к теме секса. Да простит меня автор за соленый юмор старого циника, но честно говоря, давно уже было пора «раздеть Пандору» и бросить к Алексису в постель, но… автор просто зверь! Он удерживает зубодробительную интригу темы «будет ли секс?», до 36 главы второго тома! Это просто невероятно! Впрочем, даже бочком или во время купаний Пандору автор не раздевает. А как Алексис на протяжении 20АЛ обхаживает эту суперНЕдавалку… просто песнь Буревестника и уровень напряжения тут зашкаливающий. Чего стоит только сцена, когда околдованный зельем Фрины Алексиус… читает Пандоре стихи Пушкина! Тут у меня нервы были уже на грани… В любом случае – снимаю шляпу, ни разу не сталкивался со столь долгим удержанием читательского интереса в столь деликатном вопросе.
Моменты которые позабавили:
«— А метательные машины?
— Метательные машины? — В голосе Алкивиада появились нотки разрежения, видно было, что он устал от глупости рабов.»
Честно говоря, я полагал, что Леша лучше разбирается в истории. Конечно можно выступать с предложениями, но не настолько нелепыми и в стиле «перебора вариантов».
Но Леша не знал, какая в итоге получится дальнобойность и возможно ли будет точно нацелить машину на город.
Это как раз самое простое в расчете требушета. Самое сложное там - это посчитать массу противовеса, от которого напрямую связана эффективность машины.
«— Клянусь памятью Гомера, я не успокоюсь, пока не услышу ее от начала и до конца!»
очень странная для того мира клятва. Звучит примерно как «клянусь памятью Кирилла и Мефодия» в Древней Руси. Или:
«Пандора бросила короткий взгляд на опешившего Алкивиада и поднялась, чувствуя шум в голове.
— Простите, уважаемые. Благодарю вас за
этутрапезу»
Ну слава богу, что не «ошарашенного» (жутчайший и самый раздражающий меня штамп на АТ – кстати авторам: заметьте что слово можно заменить это хотя бы на «опешившего»).
Реплика Пандоры, это точно не из Греции, а какой-то иной эпохи. В ту эпоху точно не просили прощения (для той эпохи это просто дикость), не обращались друг к другу «уважаемые» и благодарили адресно хозяина, а не «вас». Похоже на реплику персонажей начала 20-го века.
И еще вот такой грубый штамп:
«На следующий день, немного поколебавшись, Фрина решила присоединиться к Пандоре»
Так лучше не писать и выглядит коряво. Симпатичней будет: «после раздумий» или «переборов себя». Но это на совесть автора! Просто «немного поколебавшись» - один из жутчайших самиздатовских штампов.
В стилистике. Осталась не решенной до конца проблема повторов. Причем в этом романе она даже острее чем в первом.
«Голубь продолжал
своисудорожные попытки освободиться из плена, но у него не было шанса. Девушка резко выбросила руку вперед, другой дернув нить к себе. Голубь оказался в ее ладонях. Гетера сдала резкое движение. Пандоре даже почудилось, что она услышала отвратительный хруст. Голова голубя безвольно повисла. Девушка положила голубя на поднос»
Другая проблема, иногда текст внезапно переходит на жутко унылый язык (причем крайне несоответствующий сюжетной ситуации):
«Фрина ни в чем не уступала опытным танцовщицам. Пандора залюбовалась ей».
Танец, Фрина в центре, сильные впечатления Пандоры… Тут что-то должно было быть яркое, а такое ощущение, что доклад тов. Огурцова.
И еще конечно (сразу же)…
«Девушка возмущенно отпрянула и зарделась»
Ну… эм… ых… ну нельзя так писать.
«Девушка зарделась от возмущения и отпрянула» - так хотя бы понятны ее действия читателю.
Но в целом и остальном язык симпатичный приятный и словарный запас у автора очень высокий. Наверное, все эти проблемки связаны с некоторой спешкой в работе над сиквелами, и впоследствии будут постепенно убраны. Но так, небольшая редактура (не корректура!) имела бы смысл.
И сразу же о понравившихся местах:
Хорошо показана боевка:
«Удар! Еще удар! Выпад! Время остановилось. Остались лишь запах гари, пота и крови, яростные крики и стоны раненых. Вот копью застряло то ли в чьем-то щите, то ли в чьем-то теле. Алексей отпустил полированное древко и вытащил короткий меч. Так даже лучше!»
И момент, который меня изумил в самом начале плане исторического фактажа:
«Вдруг до ее ушей донесся привычный аттический говор. Так говорить мог только афинянин. Уверенно и насмешливо, слегка смягчая «р».»
Такое действительно имело место быть.
И хорошо передаются чувства персонажей через речь:
«Фрина торопливо говорила, захлебываясь от переполняющей ее тревоги:
— Этот Памфил во всем сознался! Спартанцы пообещали аристократам денег и подмогу, если Сана выйдет из Делосского союза и поможет осажденной Потидее, ударив афинянам в спину с юга…»
Короткие фразы, много глаголов при этом почти полное отсутствие прилагательных – все как и должно быть в речи взволнованного человека.
И высокая поэтичность в описательной части (редко встречается на АТ):
«У каждого дерева здесь была для нее своя история. Стройная гибкая олива в углу – весело шутила. Большое кряжистое дерево возле старого алтаря – рассказывало страшную древнюю легенду. А молодой веселый саженец – пел отважную песнь.»
В целом еще раз, язык красивый, симпатичный и мелкие огрехи не отвлекают от чтения. Из огрехов конечно повторы – их осталось после вычитки довольно много. И опять-таки спам имен: «Леша», «Пандора» и «Фрина», хотя намного меньше, чем в первом романе.
Оценка в плане исторической темы.
В целом будет высокой. Плюс огромный фактажу, все меры весов, длин и денежных единиц приведены в точном соответствии с греческой моделью, причем именно того периода, а не позднего или раненного (ради любопытства – проверил!) В остальном, есть такой анекдот: чукча и русский убегают в тайге от медведя, и чукча говорит русскому: «я не должен бежать быстрее медведя, моя задача бежать быстрее тебя». Тот же самый принцип, по сути присутствует и в исторической литературе: нет смысла пытаться отобразить тот (ушедший) мир идеально, задача показать его лучше чем другие. С этой задачей автор справляется хорошо. И если сравнивать этот роман с кем-нибудь из классиков, например с «Quo vadis» Сенкевича, то он неплохо выглядит даже на таком фоне. Бытовая часть греческого общества показана убедительно, оружие и характер боестолкновений – точно. Оценку «4» я бы поставил за характеры и общую атмосферу выбранной эпохи. Ну а разница в отображении самих персонажей с их историческими прототипами менее глубокая, чем у того же польского классика. Например Нерон у Сенкевича показан практически идиотом, в действительности это был тонкий интеллектуал, очень колкий на язык, талантливый мимик и поэт (чего стоит только букет его крылатых фраз в момент убийства!).
Самое главное в романе присутствует «погружение». Тут нет такого момента, когда например, читаешь про СССР (а еще лучше РИ!), а видишь абсолютно современную эпоху с абсолютно типичными, окружающими тебя людьми и отношениями (только мобил не хватает). Тут четко Греция и в ней присутствуешь. Очень хорошо поданы отношения греков к богам, к своим обрядам, театру и дискуссиям. Было несколько неудачных фраз, но они не испортили ощущения. Например, хорошо раскрыта тема жертвоприношений (которая обязательна для Греции!) и молитв к разным богам в пантеоне (кто обращается и по какому поводу). Ну и конечно точно языком той эпохи даны боевые действия. Действительно в тот период города брались штурмом очень редко, поскольку уровень обороны греческих городов временами был просто феноменальным (та же история обороны Сиракуз в Пелопоннесскую войну или Родоса).
Так что тут говорить. Идеально написано никогда не будет, но на уровне хороших авторов тут отображение эпохи вполне присутствует. Настроения, атмосфера и детализация – точные. Странным показалось одно – практически полное отсутствие временной привязки к Олимпийским играм и крайне редкое упоминание слова «Олимп». В Греции даже на уровне деловой переписки это звучало постоянно.
Ну что же, остался последний (пока) роман этого цикла, которым сейчас займусь.
