Рецензия на роман «Дым под масками»
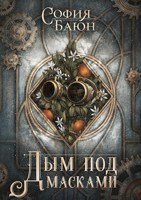
Дамы и господа, минуту внимания! Загляните в «Дым под масками» хоть на пару минут, и вы уже не сможете оторваться. Круговорот увлекательных событий затягивает и не отпускает с первой страницы до самого финала. Я невероятно завидую тем, у кого будет возможность прочесть историю на одном дыхании. Под красивой обложкой с золотым тиснением, которая отсылает к первой книге цикла «Абсурдные сны», оживают жуткие сказки, которые могут показаться кому-то смутно знакомыми, звучат революционные песни на улицах и пробирающие до мурашек колыбельные в ночной тишине особняка с привидениями. Цирковой антрепренер Штефан Надоши готов пойти на все, чтобы помочь своему названному отцу заплатить за лечение матери. «Добрый автор» подведет его за руку к самой границе, чтобы он взглянул в лицо своим страхам и ужаснулся. Этот путь с ним пройдут и остальные герои: его верная подруга-гадалка Хезер, чародей-адвентист по прозвищу «Крысолов» и слепая во всех смыслах меценатка Ида со страшной тайной, которая буквально лезет из кожи вон чтобы стать явью.
Внимание! Что бы я ни сказала о книге и персонажах, все может оказаться спойлером, поэтому если вы не хотите испортить себе удовольствие, не читайте рецензии до того, как прочтете книгу. Прочтите книгу, составьте свое мнение и возвращайтесь, чтобы обсудить впечатления в приятной компании.
Итак, начинаем сначала.
«Дым под масками» продолжает знакомить читателя с миром «Механических птиц». В первой книге цикла мы начинали путь в Кайзерстате, путешествовали по Альбиону и заканчивали во Флер, а также имели возможность представить себе на основании скупых дневниковых записей Джека Говарда, что происходило во время опиумной войны. Сейчас нам покажут мятежный северный Морлисс и удивительную Гардарику, страну свободных городов, жители которых любят расстегаи и говорят po-russky. Этот мир сам по себе обеспечивает половину успеха. Поскольку он сочетает в себе историческую достоверность, в который умело и непротиворечиво вплетены авторские оригинальные находки, связанные с фантдопом. В этом мире есть магия. И это нифига не облегчает никому жизнь.
Жизнь людей, отмеченных даром, принадлежит государству, из них делают оружие массового уничтожения. Им ставят блокаторы, которые причиняют боль, а сама магия приносит яркое, почти наркотическое удовольствие и, как любой наркотик, постепенно разрушает разум.
Магические вещи работают примерно так же. Особенно те, которые оснащены иглой для внутривенных инъекций или забора крови, тут я не совсем разобралась, да и неважно это. Главное — это красота замысла.
Магия — это творчество, а творчество всегда требует крови того, кто созидает. Эта мысль, надо отдать Софии должное, красной нитью проходит через все ее произведения. И неизменно впечатляет меня, как впечатляет обнаженная суть, обычно скрытая драпировками красивых слов. К чести Софии, это не производит угнетающего эффекта. Она никогда не пишет о фальшивом, ее просто не интересует, что будет, если творец вместо крови будет лить подкрашенную водичку. Уже этого довольно, чтобы рекомендовать ее книги начинающим авторам наравне с «учебниками по литературному мастерству». Здесь и первое правило писателя, и предостережение для неосторожных — как вам будет угодно, но это точно самое главное, что стоит усвоить перед тем, как начинать.
Но даже если не задумываться о том, какие скрытые от поверхностного взгляда механизмы объясняют функционирование этого удивительного мира, который кажется таким знакомым, будто смотришь в зазеркалье, история остается увлекательной. Старый-добрый, любимый многими стимпанк поможет дорисовать в воображении приметы времени: пассажирские дирижабли, самоходные сани, красные лампы фотолабораторий, протезы и много-много дыма в глаза тем, кто верит, будто магия способна дать жизнь — и тут к компании печально известных Соловьев и Механических пташек присоединяются Сновидцы и призраки. Вся эта успокоительная ложь о том, что кого-то можно насильно удержать, и ему не будет больно, сперва разлетается осколками в первой книге, а во второй — развеивается подобно дыму.
И что же, спросите вы, неужели эта книга о том же? Повторяет уже озвученную мысль?
И да и нет.
В «Дыме под масками» постановка вопроса намного глубже, острее и оттого трогает сильнее — и вряд ли кто-то останется равнодушным к той мысли, которую проговаривают в финале. Хотя бы потому что она так или иначе касается каждого, ведь всем нам приходится кого-то отпускать... Я даже думаю, что две книги ведут скрытую полемику между собой. История Томаса и его матери затронута по касательной, и по-настоящему проблематика исследуется именно во второй книге, которая, казалось бы, обходится почти без участия самого Томаса и совсем не показывает, в кого превратилась его мать.
Зато в «Дыме» есть Астор Вижевский. Если и есть кто-то, кого не ужаснула механическая кукла, то сокрушительная сила обаяния подневольного Сновидца вызывает живейшее сочувствие и неподдельный ужас, стоит только представить на его месте себя... своего любимого... своих родителей. С этой точки зрения, «Дым под масками» — идеальное и абсолютно необходимое продолжение «Механических птиц». Несмотря на то, что герой другой, и с Уолтером он даже не знаком (до самых титров) ему приходится иметь дело с возросшими ставками, его вынуждают спускаться еще ниже, чем зашел Уолтер Говард (и даже Джек, со всем уважением). И вместе с ним идет читатель.
Тем увлекательнее путешествие, если идти за огоньком в руках Софии еще со времен первой части «Мы никогда не умрем». Поверьте, это совершенно особенное удовольствие, ведь все книги, сказки, стихи и истории, которые она рассказывает — это детали одной большой и очень красивой мозаики. Любой заядлый коллекционер поймет меня, если я расскажу, как радостно находить перекрестные пасхалки и шутки в самых неожиданных местах.
«Дым под масками», такой жуткий и гнетущий, если пересказывать в общих чертах, пронизан юмором как лучами теплого света — а это редчайший писательский дар, как по мне. Даже говоря о серьезных и трогательных вещах, автор не скатывается в пафос, не надувает щеки и не строит из себя пастыря. Персонажи, в особенности главный герой, не лишены недостатков, но...
Об этом, право, даже говорить неловко.
Возможно, я давно хотела об этом поговорить.
Герои не должны быть положительными. Не должны быть отрицательными. Не должны быть симпатичными. Не должны вызывать сочувствие. Они вообще ничего не должны, но самое главное, что они не должны быть скучными.
Если главному герою вот так запросто можно дать исчерпывающую характеристику в отзыве... ну... у меня для вас плохие новости. Либо автор, либо читатель по каким-то причинам отказывает персонажу в «праве на жизнь». Это из разряда «для меня это буквы», и знаете, вот когда оно так — тогда анализировать произведение довольно просто. «Буквы» не выходят за рамки, всегда послушны плану и редко когда — читай никогда — по-хорошему удивляют. Повторюсь, от читательского восприятия это тоже зависит.
А для меня герои в «Дыме под масками» за то время, что я слежу за историей, обрели объем и многомерность. Штефан Надоши может ворчать сколько угодно, но я вижу за этой маской человека с тонкой душевной организацией, чуткого к искусству и тактичного, когда это требуется. Но кого интересуют мелочи, если мне показали героя, который буквально всю дорогу с особым шиком носит тот самый значок «Saviour of nothing». С самого начала, когда он не сумел спасти мальчишку, своих людей, свой фургон, свою антрепризу, других своих людей я поняла, почему он мне так нравится. У меня возникло ощущение, что, когда вокруг останутся одни черепки и ни одной целой вазы, он будет сражаться за самое главное и именно тогда раскроется. Ответ, что для него является самым дорогим, мне понравился. Было бы странно ожидать иного, кстати.
А, и кстати, думаю, что очень полезно помедитировать над черепками разбитых ваз, пусть даже если они разбились у героя в книжке и вроде как понарошку — это наводит на мысль, что все это либо не имеет значения, ибо мирское и преходящее, либо можно склеить и жить дальше. Может быть даже использовать золотую краску и задорого потом эти разбитые и склеенные вазы продать, как в итоге и поступил Штефан. На этом мы заканчиваем рубрику «хозяюшкам на заметку» и возвращаемся к героям.
Хезер Доу, например, только делает вид, что способна контролировать все, что угодно. У нее для этого есть черные карты, которые никогда не лгут. У нее для этого есть алкоголь, песни, тазики, ножницы, нитки, и даже реквизит антрепризы для того, чтобы иметь возможность отгородить свой маленький уютный мир от чужого безумия. Она очень старательно делает вид, что все в порядке, но в итоге именно она лучше всех понимает, что нельзя позволить оставить все, как есть. Тут, если подумать, довольно забавно получается. В Соболиной усадьбе жили три женщины, которые пытались контролировать то, что контролировать нельзя, но очень хочется. Ну это если не считать милашку Изу, которая, к сожалению, потерялась где-то ближе к финалу. Надеюсь, с ней все в порядке. Но все-таки можно сказать, что она уравновешивает счет. Две женщины были безумны настолько, что решили, будто могут контролировать хтонь. И две женщины, которые изо всех сил противостоят творящемуся вокруг хтоническому безумию. Красота же.
Чародей Готфрид, со своей очаровательной синестезией, ветеран-дезертир с бытовой чудинкой и массовым убийством за плечами. Для второстепенного персонажа он был слишком прекрасен, и я рада, что его заперли вместе со всеми в Соболиной усадьбе, где этот красавец взял на себя нелегкую обязанность приручать заколдованное Чудовище. Пусть их воркование и осталось «за кадром», сам по себе Готфрид получился достаточно сложным и противоречивых характером. Есть в этом адвентисте что-то от Джека Говарда (я имею в виду его положительные качества, хе-хе). Например, Готфрид так же самоотверженно отдается работе. Вот прямо буквально, м-да... А вот все эти занимательные сентенции и тихие, но отчетливые звоночки про бога в зеркале с другой стороны прокладывают мостик через миры прямиком к Виктору, который тоже... имел некоторые болезненные зависимости, кстати. Я бы почитала такой кроссовер, кстати
Ида Вижевская, которую так и тянуло первое время сократить до Ид («бессознательное»). Олицетворение слепой любви. Воплощенное отрицание. Бесполезно даже пытаться приколотить над дверями ее спальни лозунг про благие намерения, которые ведут известно куда. Отвалятся. Никаких благих намерений у Иды отродясь не было, если не считать за них отчаянное стремление сделать все возможное, чтобы сохранить то, что давно уже мертво. Иронично, что в произведении обыграны сопутствующие расстройства: стремление «заесть» проблему, болезненная склонность к чистоте, навязывание неких правил, в которых непременно есть пункт о замалчивании проблемы, выходящая за рамки агрессия к «нарушителям», ну и другие, уж не буду на этом заострять внимание. Очень тонко, я оценила)))
Ида получилась несколько... функциональной, в отличие от остальных, но, думаю, в этом пугающая достоверность ее образа. Я даже побаиваюсь погружаться в анализ, потому что из этой Бездны на меня с любопытством смотрит и мое отражение тоже. Ужасно неприятное чувство, если честно. Из мелкой мстительности отправлю Иде открытку с видом новогодней заснеженной усадьбы и подпишу: «Лошадь сдохла — слезь». Тут бы еще привыкнуть добавлять цитату Штефана и Берты: «Ида, ну еб твою мать!» — и тогда я точно рано или поздно научусь замечать ситуации, когда моя внутренняя Ида творит херню и вовремя эту херню пресекать.
Я же говорю, очень глубокая и очень поучительная история. Как всегда, впрочем.
Спасибо тебе за нее 
