Рецензия на роман «Полночь XXI века»
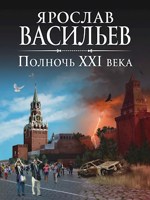
Прочитала «Полночь XXI века». Причем читала в два приема, сначала несколько первых глав в декабре, отложила. Потом, 1 января, помня обещание, до конца. Отзыв публикую лишь сейчас – по просьбе автора. Обычно ругательные отзывы не публикую.
Итак, скорее не понравилось, чем понравилось. Ожидалось большего.
По жанру – альтернативное настоящее. То есть бывает альтернативная история – поле игр фантазии тех авторов, которые знают все «лучше Наполеона со Сталиным». Здесь – 2006 год, то есть практически наше время, но ставшее почему-то материализованным воплощением влажных мечт всяких «булкохрустов». Почему – объясняется в конце, но мирок жутковатый. Антиутопия, причем построенная на идеях политических утопий.
По стилю. Стиль неспешно-повествовательный, много описаний, причем порой совершенно не нужных по сюжету.
Например, описание леса, когда Конный-старший идет из поместья в спортшколу. В принципе, для сюжета вообще пофигу, как он добирался: пешком, в машине или на палочке верхом. Смысл довольно большого эпизода – показать, что в границах «белой зоны» корпораций, в границах территорий, на которых обитают «хозяева жизни» и их обслуга, с экологией все о`кей, там непуганые ежи и прочие радости жизни.
Но для такой функции эпизод слишком объемный. В «боллитре» такие большие описания используются для игры со стилем. Кстати, в «боллитре» сейчас обсуждают роман «Сад» Марины Степановой. Та же тема «хруста французской булки», причем на полном серьезе, тоже много всяких пейзажей и описаний природы, но там тетка хоть упражняется в словесных изысках, хвастает тем, как может «плести кружев», поэтому получаются абсолютно бессмысленные, но красявые картинки.
Тут и этого нет. К сожалению, язык бедный. Не безграмотный, а бедный, вплоть до того, что в одном предложении попадаются однокоренные слова. «Небольшой коридор заканчивался большой двустворчатой дверью». «Небольшой-большой», хотя более точных и при этом не однокоренных определений – вагон.
Или – длинный кусок про ювелирную лавку в торговом центре. Все эти рассуждения об огранке алмазов, описания драгоценностей к основному действию – никакого отношения, кроме, может быть, намека на эмоции продавщицы.
В общем, в «Полночи XXI века» описания информативны, причем даже излишне информативны, но не эстетизированы. Язык прост, скуден, поэтому более подходит для динамичного действия, чем для объемных описательных кусков. Дело не в том, что язык плох. Он не плох, он вполне функционален как средство передачи информации. Но он не соответствует тем описательным задачам, для которых используется. Слишком скуден для них.
Кроме того, в начальных описаниях неплохо бы было дать ощущение «декорации». Нереальности окружающего мира. Каких-то ошибок в моделировании "доброго старого царизма". Но в первой части текста все описания слишком реалистичны и слишком серьезны. Лишь под конец в мыслях Тимофея появляется ощущение нереальности, да и то - вскользь.
И дело тут, думаю, вот в чем. По-хорошему, вложенной в роман идеи достаточно лишь для большого рассказа или повестушки, но никак не для масштабного произведения. Сказать все то, что сказано объемными описаниями, можно в пять раз короче. Но тогда текст не мог претендовать на звание романа. Хотя, по большому счету, объем – не главное. Как-то ради прикола глянула объемы известных романов. Какие-то – да, кирпичи. Но «Герой нашего времени» Лермонтова – меньше 300 тысяч знаков. «Отцы и дети» Тургенева – менее 400. «Полдень. XXII век» Стругацких – 480 килознаков… А мы привыкли лить воду, "дотягивая" до кем-то придуманных стандартов.
Про идею. Интересно, хотя и весьма спорно.
Понятно, что антиутопия, построенная на полемике с достаточно анекдотичными (на самом деле) идеями «булкохрустов». При этом абсолютно непонятно, как удалось реализовать эти идеи на практике. Ведь все события конца 80-х и начала 90-х происходили под лозунгом «Больше личной свободы!» Видимо, действительно, без «облучения» не обошлось.
Ну, и еще один момент, который роняет ценность текста как антиутопии.
Принцип «работы» антиутопии – столкновение обыденного для окружения автора общественного мнения с картинами «реализованных идей и вероятностей». Как правило, любая идея, доведенная до логического конца, превращается в трэш и абсурд. А любой трэш и абсурд приводит к замедлению развития и деградации и общества, и эстетики.
Скажем, в «1984» Оруэлла описываются достаточно трэшевые картины существования и «среднего класса», и особенно «пролов». А у Уэллся в «Машине времени» - вообще «перевертыш»: изначальные «хозяева жизни» элои деградируют до состояния скота, предназначенного в пищу.
Тут абсурдность идеи «булкохрустов» вообще никак не показана. Возможность безнаказанно трахать покорных селяночек многим читателям, привыкших ассоциировать себя с «высшим обществом» (хотя имеют в предках сплошных кухарок да конюхов) очень даже понравится. Нет конфликта с реальностью. Гипотетический «откат» за существование в искусственном мире – только теория, он не показан.
И еще одно. Мы слишком привыкли к западной космоопере, в которой классовое устройство общества автоматически проецируется на эпоху освоения межзвездного пространства. Реальность же показывает, что при капитализме человечество не способно по-настоящему выйти в Космос. Торможение космических программ во всем мире в последние 30 лет – тому пример. Собственно говоря, сегодня в освоении Космоса повторяются те же задачи, что ставились 40-50 лет назад.
Более развитый в технологическом плане мир, из которого бежит Юлия, социально – такой же классовый, построенный на власти корпораций, как и Земля. Точнее, похоже, в том мире реализовалась другая, более реалистичная, антиутопия: разрушение государств как таковых и замена их на власть корпораций. Достаточно известная кибер-панковская модель общества, вполне реальная как будущее Земли, но полностью отрицающая освоение Космоса. Переход абсолютной власти от государств к корпорациям приводит к стагнации и постепенному «съеживанию» экономики в связи с истощением легко извлекаемых ресурсов. (Хорошо проработано, кстати, в серии "Анклавы" Вадима Панова. Нехрен убивать Лунного Зайца).
Про героев. Основных – двое: наследник одного из местных олигархов Тимофей и таинственная девушка Юлия.
Тимофей – типичный «добрый царь», парень без особых комплексов, умный, образованный, которому в силу происхождения не пришлось выгрызать зубами место в жизни. «Темно-русый медвежонок ростом под два метра». У него все хорошо, поэтому, когда он осознает общемировые проблемы, с радостным энтузиазмом бросается их решать. Причем у него настолько все хорошо, что он даже способен признать равными себе тех, кого общество считает низшими. Ему не нужно утверждаться в собственной состоятельности за счет принадлежности к высшему классу, ему не нужен «задник» из низших, на фоне которых он лучше выглядит.
Юлия – возможность дать объяснение появлению того странного общества, которое описано. Есть несколько второстепенных, но достаточно смачных героев, скажем, управляющий имением – «раб по призванию».
Сюжет …ну, тут без спойлеров не обойтись. Могу только сказать, что отдельные куски построены по схемам добротного производственного романа. Не боевик, не детектив, не лайф-стори (все это – отдельными линиями), а производственных роман.
Однако, несмотря на все «не понравилось», текст показался гораздо более интересным, чем 90% того, что пишется. Он полемичен, заставляет внутренне спорить, ругаться с автором, искать аргументы и – в итоге – разносить в пух и прах идеи «булкохрустов».
Что интересно. И для чего, подозреваю, и писалось.
