Рецензия на роман «Предательство шута»
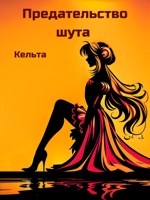
Первую мою конкурсную рецензию на классическое фэнтези я начну с того, что люблю это направление всей душой и вовсе не считаю низким или слишком простым. Однако не могу отрицать, что отношение к фэнтези, как к литературе легкой, сугубо развлекательной, не претендующей на какие-то скрытые или интересные смыслы, появилось не на пустом месте. Многие авторы пишут именно так и стремятся именно к этому: незатейливо развлечь публику занимательным сюжетом, интригой или красивой картинкой, не уделяя особого внимания глубине смысла, проработке мира и реализму человеческих отношений. Многие читатели этого и ждут и только этим довольствуются.
Таков и роман Кельты «Предательство шута»
Хотя, справедливости ради, следует сделать оговорку: возможно, глубина и реализм потерялись не специально, а оттого, что на момент написания романа это был авторский потолок. По сути, перед нами не роман еще, но заготовка романа от автора с хорошими задатками, но не слишком умелого в ремесле. Этот тезис я и постараюсь далее раскрыть.
О чем роман и к какому жанру-поджанру и виду-подвиду относится, наверняка многократно сказали и до меня, но я все-таки тоже отмечусь. Перед нами роман жизненного пути или точнее – роман взросления. Потому что как только взросление главной героини завершилось, так и настал конец пути и конец романа.
Краткое содержание: пятилетнюю Милаши, дочку трактирщицы, в приказном порядке отдают в обучение придворному шуту. Девочка растет, учится, становится подмастерьем, потом мастером и, наконец, занимает место учителя. На своем посту она достигает значительных успехов как профессионал и как политик. По ходу событий действующего монарха сменяет его наследник, который тоже взрослеет и меняется на наших, читательских, глазах и вполне может считаться вторым главным героем романа. В завершении мы видим итог полного формирования личности шутессы Милаши и наследника Хара, ставшего императором Ногардом девяносто восьмым.
Собственно, морально-этический итог, к которому пришли эти двое и, как следствие, прогноз судьбы империи в эпилоге – вот что представляется мне основной идеей произведения, основным его смысловым стержнем. И стержень этот, на мой вкус, хорош, как хороши все вечные ценности, высказанные и показанные с несколько иного ракурса, чем обычно.
Иной ракурс очень важен, потому что только так, только обеспечив необычный и свежий взгляд на традиционную, в общем-то, истину, можно освободить от наслоений будничной скуки красоту и глубину ее мудрости. Удалось ли это в романе? Считаю, что удалось в задумке, но не в полной мере получилось при исполнении.
В чем это выражается?
Прежде всего – в неожиданной роли шута при дворе императора. Дело в том, что в романе придворный шут – не просто артист, комедиант и менестрель, развлекающий двор во время приемов и праздников. Он играет гораздо более важную и серьезную роль! А именно – является исключительно доверенным лицом императора, советником и исполнителем поручений самого деликатного характера.
Смелый сюжетный ход одновременно интересен тем, что не лишен правдоподобия – такое положение для шута, если он и в самом деле близкий и верный друг императора, вполне логично. Шут не скован правилами этикета и может позволить себе любые вольности в поведении. Шут может высказать любую самую крамольную мысль под видом юмористической или сатирической репризы и таким же образом пристыдить или напугать оппонента любого ранга, намекнув на некоторые его тайны, слабости или болевые точки. Шут может подглядывать и подслушивать, шпионить за всеми, от служанки до иноземного посла, и никто его не заподозрит, если не будет осведомлен о его истинном положении при дворе. С какой стороны ни глянь, положение шута очень выгодно именно для тайных дел мастера. И именно это обыгрывается в романе – умно, красиво, интересно!
Но тут же нужно сказать и о недотянутости идеи. А именно, как я уже сказал выше: такое положение шута сыграет на пользу империи, если как можно меньше народу будут об этом осведомлены. Здесь же, как поначалу старый шут Мирк, так потом и Милаши совершенно в открытую пользуются своими привилегиями ближайших друзей императора, и при этом общество как-бы не замечает, что перед ними не просто шуты, а заправские высокоранговые шпионы. Это странно, это неправдоподобно.
Особенно неправдоподобным мне представляется то, что мятежники, захватив власть в столице, не пресекли подрывной деятельности Милаши, хотя все прекрасно знали, насколько она умна, насколько осведомлена, насколько верна императору, что вся ее деятельность будет именно подрывной. Но нет, мятежники девчонку сначала арестовали, а потом по какому-то умственному затмению – отпустили и даже оставили при дворе совершенно безнадзорно. За что и поплатились… как мятежники – поражением, так и весь роман – большим белым роялем в кустах крепостного двора.
Второй чертой романа, много говорящей о потенциале и возможностях автора, я бы назвал светские (придворные, политические) интриги. Некоторые из них выписаны отлично, например, выбор невесты для наследника. Как девчонка этот выбор обставила и как помогла потом молодой жене войти в круг высшей имперской знати и избежать ловушек – это было здорово! Умно, со знанием дела и по-женски тонко и деликатно.
Понравился мне и другой момент: диалог с послом, у которого много дочерей и внучек. Милаши ненавязчиво дала понять старику, что мир и политические браки ему лично гораздо выгоднее, нежели война и изоляция. Тут в полной мере показан интеллект Милаши и то, как она на практике пользуется хорошим образованием.
Или взять трюк с феодалом, который хотел лишить сына наследства и титула, но не смог должным образом высказать просьбу императору из-за проделок Милаши. И само исполнение, и потом оценка: «Это было подло» - просто великолепно! Всегда бы так!
Но, увы, в романе так не всегда. Вот пример непродуманной, хоть и красочно обставленной, интриги, которая чуть не разрушила мое доверие к роману и автору полностью: посольство Милаши в мятежную провинцию, где она якобы остановила мятеж. Я не понял, как ей это удалось? С чего вдруг лендлорды, взрослые мужчины с опытом управления имениями и ведения войн, послушали разодетую в цветные тряпки девчонку? Только с того, что она жестко и театрально высказала волю императора? Не верю. Если бы у императора в провинции был такой авторитет, то и мятежа изначально не было бы. А так – мятежники сочли бы оскорблением вести переговоры с женщиной, соплячкой, да еще и шутом! Ее бы просто на порог не пустили, и билась бы себе в приступах праведной ярости в чистом поле.
Третья удача (и одновременно недоработка) – миротворчество. Продуманные до мелочей наряды и образы Милаши, говорящие детали в портретах невест наследника или описании некоторых интерьеров, да, наконец, вспомогательные материалы к роману – все это явно говорит о том, что у автора был целостный подход к формированию мира произведения. Я даже уверен, что атмосферу романа, ту самую глубину, объем декораций, которая превращает картон в правдоподобную вселенную, автор для себя представляет отлично.
Но вот в тексте, к сожалению, атмосфера передана редкими вкраплениями, а по большей части просто забыта. А ведь читатель не видит замысла – только текст. И то, что за пределами, остается для него не существующим.
Примеры такого несуществования:
1) Магия есть, но нет никаких следов ее проявлений в жизни. Редкие исключения, когда она непосредственно применяется кем-то из основных действующих лиц. Есть разговоры о магах разной специализации, но среди персонажей любого плана нет ни одного боевого мага, мага-целителя или амулетника. Исключение – сама Милаши и ее учитель, который вроде как маг, но за весь роман ни разу не магичит.
2) Есть религия и даже верховный жрец, однако нет ни одного упоминания божества. Все действующие лица ведут себя как абсолютные атеисты: никогда не обращаются к богу (к богам), не молятся, не совершают религиозных обрядов.
3) Есть разговоры об экономике, ремесле и торговле, но самой экономики как таковой нет. Нет упоминания (кроме случая с волшебным вином) о происхождении тех или иных предметов быта, роскоши или продуктов питания. Да что там экономика – даже географии внятной нет. Вот, например, Милаши пьет кофе. А откуда оно берется? Растет непосредственно в империи? Или завозится? И что пьют все остальные? Чай? А он откуда? Культурно империя похожа на Европу, а в Европе ни чай, ни кофе не растут. Хотя Европа ли (условно) это? Может быть, имеется в виду (условно) Индия? Нет ответа.
4) Вообще жизнь за пределами дворца не имеет в тексте четко опознаваемых опор и логических связок. Легкие упоминания об урожаях и войнах только усиливают эффект повисания в воздухе. Вот, например, такое упоминание:
— С королевством у нас заключены мирный договор и целый ряд соглашений о торговле. Они действуют ещё четыре года. В случае объявления ими нам войны или просто нападении без объявления они все прекращают своё дальнейшее действие. По тем же договорам Панары будут нам должны неустойку около полутора сотен больших золотых, выплаченных сразу. Неустойка может быть заменена территориями. Но если первыми нападем мы, то всё то же самое могут потребовать с нас.
Интересно, какие международные институты в мире романа могли бы обеспечить выплаты неустоек по межгосударственным договорам? Сдается мне, никакие – это и в нашем-то глобальном мире проблематично. Только военная сила гарантированно все решает: кто победил, тот и забрал золото и территории. А межгосударственные договоры держатся исключительно на взаимной выгоде и рушатся мгновенно, как только эта выгода ставится под сомнение.
Четвертое – персонажи, их образы и психологическая проработка, а также основной конфликт произведения.
То, что персонажи прописаны схематично и скорее представляют собой маски-функции, чем имитируют живых людей, разными критиками говорилось неоднократно. Так оно и есть. Возможно, кто-то скажет, что это особенность произведения. Я – нет, я считаю, что это слабость, недостаток. Но об этом чуть ниже.
Сначала же я хочу обратить внимание на основной, сквозной конфликт, который мне нравится и который я считаю сильной стороной романа. Это конфликт (ревность?) между Харом и Милаши. Девочка до конца честно исполнила свой долг перед монархом. Но был ли это только долг службы? Думаю, нет, думаю, в большей степени это был долг дружбы и долг сестринской любви. С другой стороны, принц охотно дружил с шутессой-подмастерьем, допускал в свои тайны и личную жизнь, но вот наличие сестры-бастарда принять и простить не смог. Мне представляется, что именно здесь произошел моральный надлом и именно с этого момента хороший во всех отношениях юноша стал превращаться в циничного мужчину. Возможно, цинизм – отличительная черта правителя, без которой он просто несостоятелен? На это есть намек в романе. Но есть и другой намек – незавидная судьба империи, построенной на предательстве. То есть, автор дает нам вопрос и намеки на два противоположных ответа. Это очень красиво! Это огромный плюс.
Но, к сожалению, опять чуть-чуть недокрученно – не хватает эмоциональной вовлеченности читателя. Именно тут герои-функции недостаточны, нужны герои-люди, которых читатель поймет, которым будет сочувствовать, тогда конфликт обострится, выйдет на первый план и заиграет ярче.
В чем же причина того, что герои не получились живыми, что не удалась эмоциональная вовлеченность? Я думаю, причина в том, что стиль произведения хромает и выдает недостаточное владение словом.
Например, вот этот отрывок:
Тогда она в новом платье так же шла в библиотеку и натолкнулась на детей слуг, до этого почти не обращавших на неё внимания. Но в тот раз мальчики отвлеклись от работы и, зло улыбаясь, преградили Милаши путь.
По идее это должен быть очень эмоционально-насыщенный момент: Милаши страшно и обидно. Но разве страх и обида читаются в этих строках? Нет. Потому что из ряда синонимичных слов здесь употреблены самые нейтральные и самые безличные: дети слуг, мальчики, отвлеклись от работы, преградили путь. Единственное эмоционально окрашенное слово – это злоулыбаясь. Каких-то очень конкретных характерных признаков этих мальчиков, которые дали бы читателю яркую запоминающуюся картинку, тоже нет.
Или здесь:
Старая женщина ходила между танцующими, тростью поправляя движения, ворчливо давая советы. Но на Милаши и доставшегося ей кавалера она больше не обращала внимания. А мальчик с отсутствующим видом едва шевелился, подражая дереву.
Наставница названа старой женщиной – безразлично, округло и общо.
В целом же замечаний по стилю множество, что еще раз доказывает: автору есть, над чем работать и куда расти. Приведу лишь некоторые примеры:
…сетовали о разоряющих торговцев пошлинах (сетовать на пошлины)
Нам бы хотелось услышать просьбу, из-за которой вы просили о встрече.
Дышать, болтать и улыбаться до тех пор, пока прилично отсутствовать на празднике, устроенном в твою честь. (Корявое предложение. Как минимум «столько, сколько прилично отсутствовать», а «не до тех пор»)
Придворные ходят благостные, как коты после сметаны. (Благостный – это приносящий благо, а не получивший. И «как коты после сметаны» - это исковерканный фразеологизм, а изменять фразеологизмы если и можно, то крайне осторожно.)
Прикрыла лицо до носа кружевным отрезом… (отрез – это приличный такой кусок ткани, употребляется как мера для шитья какой-нибудь одежды, например, отрез на костюм. Это не маленькая вуалька)
Тут ее взгляд натолкнулся на один из своих колокольчиков. (Колокольчик принадлежал взгляду?)
И так далее по всему тексту романа.
Даже само название "Предательство шута" двусмысленно, и да простит меня автор, но эта двусмысленность не кажется мне хорошей идеей: скорее обман читательских ожиданий, нежели интрига.
И, наконец, самое главное: весь сюжет романа вертится вокруг жизни и деятельности придворных шутов, а шуты, ни Мирк, ни Милаши, за работой почти не показаны. И, думается мне, это вовсе не потому, что так задумано изначально. Скорее, просто так вышло – не сложились остроумные и одновременно соответствующие контексту шутки и репризы.
Однажды, очень давно, я услышал такое определение: художник – это тот, кто рисует то, что хочет, а не то, что умеет. По-моему, очень точно сказано! И, конечно, касается не только именно рисовальщиков и живописцев, но и писателей, музыкантов и всех прочих творческих личностей.
Роман «Предательство шута» представляет собой скорее возможности автора на момент написания, чем желания. Именно поэтому я считаю его только заготовкой, черновым вариантом, но и верю в большой потенциал автора.