Рецензия на роман «Дети разбитого зеркала. На восток. Книга первая»
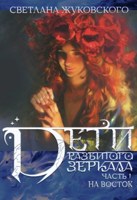
Того, кто возьмется проглотить эту пилюлю – а всякая чужая мысль о нас – это пилюля, которую приходится глотать, и часто мы морщимся не от едкости ее, но от приторности, которой тоже можно погубить (помните об этом!) – так вот, этого отважного человека я, прежде всего, берусь предупредить о том, что горечь и сладость в этой облатке связаны иначе, нежели в обычном лекарстве. Нет никакой сахарной оболочки, скрывающей за собой противную, но целебную начинку; горечь начинается с самого начала, и если вдруг она перетекает в сладость, как недостаток перетекает в достоинство - и наоборот – то происходит это не потому, что рецензент, спохватившись, что сказал слишком много дурного, заглаживает свою вину, прыская из всех пор елеем – дело в принципиальной нерасторжимости двух этих качеств.
Книга написана художником, это видно с первых же строк. Все показано зримо и выпукло, с точно подобранными оттенками. Очень грамотно распределен и эмоциональный окрас: выбор повествовательных красок меняется в зависимости от задачи.
Однако художники бывают различны: Светлана работает в солидной академической манере, и я беру на себя смелость утверждать, что данный стиль – а выбор слов и выбор палитры – во многом родственны – не совсем подходит данной работе. Если «мистический роман» желает выделиться из ряда фэнтезийных поделок и исследовать индивидуальные метафизические глубины, тогда он не должен полагаться на привычные образы и оттенки палитры; здесь это усреднит послание, сделает его более или менее похожим на любые другие романы о богах, вампирах, оборотнях, etc. Что должен делать «мистический роман» сегодня, так это будоражить, тревожить, предлагать метафизику, которая не предусматривала бы удобных и привычных решений (так, например, поступает Бэккер во «Втором апокалипсисе»). Без этого достойно написанный текст обречен быть чем-то вроде приличного натюрморта, который до того хорошо вписывается в гостиную, что на него толком не обращают внимания.
Каково решение? Я бы сказал так: быть резче, быть жутче, не скупиться на жгучие краски, не искать для себя в тексте уюта, меньше пользоваться стандартными кирпичами, из которых строится фэнтези – бесчисленные Империи, орды кочевников, демоны.
Движемся дальше.
Текст с ярко выраженными эсхатологическими мотивами (главная тема – финальная битва Спасителя Мира с его Губителем; главная интрига – кто из двух главных персонажей есть кто) подразумевает, что для нас есть разница, погибнет описанный в книге мир или продолжит существовать. Между тем, ценность первичного мира и вторичного – различны, первый дан нам в ощущениях, а вот насколько дорог нам второй – зависит от того, как сильно мы почувствовали его благодаря автору, насколько с ним сроднились и вжились в его материю; иными словами, насколько его разрушение ранит лично нас.
Увы, с этим моментом в «Детях разбитого зеркала» дело обстоит не слишком радужно. Есть Империя, но мы практически не чувствуем ее масштаба. Есть кочевые орды – стандартный кирпичик фэнтези – но что мы знаем об их быте и обычаях? Император Ченан не ощущается императором, первосвященник Берад не выглядит первосвященником, даже онейротический мир Князя Тьмы выстроен из весьма условных, неиндивидуальных блоков: вот демон, вот оборотень, вот вампир.
Кроме того, эсхатологическая тема вступает в противоречие еще и с повествованием. В сущности, перед нами достаточно камерная история, в которой персонажи взрослеют и разбираются со своими внутренними проблемами, чтобы в конечном счете осознать и сыграть свою роль Спасителя или Губителя. Мир здесь условен, он выступает как фон для авантюр духа, и ничто не может так повредить серьезности нашего восприятия местного конца света, как эта условность. Что, собственно, является ставкой в борьбе Света и Тьмы? Набор декораций? Пусть горят, всегда можно построить новые.
Здесь надо сделать важное замечание: хотя сам мир в книге, по большому счету, не важен, его конец или спасение в камерной, личной истории могут быть вовсе не бессмысленны, поскольку в том или ином исходе волей автора может проявиться определенная ценность, близкая читателю. Это могут быть преданность, дружба, желание жить, любовь – или, напротив, отчужденность, презрение, стремление к смерти. Глобальное – мир – таким образом, получит смысл благодаря частному, личный выбор сделается как бы манифестацией всеобщего, обретет всечеловеческое значение.
Все это сказано здесь затем, что в данной рецензии идет речь только о первой книге трилогии, где происходит завязка конфликта, и, если на начальном этапе, по большому счету, безразлично, кто погубит мир, а кто спасет, дальше все делается глубже и тоньше. Нет никаких препятствий к тому, чтобы повествование в следующих томах перешло на еще более высокий, символический уровень, все фундаменты под это заложены успешно.
Говоря о фундаментах, следует коснуться композиции. Относиться к ней можно двояко: с одной стороны, в вину Светлане можно поставить желание сразу выложить на стол все карты (Змей, Спаситель, Рдяный царь), с другой – на свете очень много произведений, где интрига скрывает полное отсутствие смысла, и грамотную реализацию ясно и четко намеченного плана мы должны ставить выше, чем попытки замутить воду. Важно не столько накручивать повороты сюжета (он, как продажная женщина, принимает любую позу, лишь бы заработать побольше), сколько правильно работать с имеющимися коллизиями и привести их к финалу так, чтобы заложенный в повествовании эффект сработал должным образом. В этом отношении Светлана работает вполне успешно: мы знаем Кто, но не знаем Как, и это служит главным источником интереса при чтении.
Ведь именно «Как?» - сегодня главный вопрос в литературе, где обозначены уже все сюжетные коллизии, и конструирование текста в жанровом формате сводится, по большей части, к комбинаторике. И «Как?» в центре нашей оптики задает вопрос о приоритетах текста – где он работает сильнее, в какую сторону бьет упорнее? По нашему мнению, «Дети разбитого зеркала» рассчитаны больше на чувственное восприятие, нежели на интеллектуальное: когда мы отдаемся во власть конкретному моменту, когда наша задача – оценить мастерство повествователя, соорудившего эпизод из деталей, продумавшего каждый мазок, тогда наше удовольствие от текста несомненно, и, собственно, этим хорошая проза отличается от плохой (скверно написанная книга, как это ни странно, тоже может быть хорошей, просто в ней мы больше смотрим на то, что автор пытается сказать на странице, а не в отдельном предложении). Данный текст силен, когда мы ждем от него эффекта здесь и сейчас, после каждой главы – или даже после отдельных блестящих абзацев, однако стоит отойти подальше, рассмотреть его с высоты, как сразу же обнаруживается стандартность многих составных элементов и определенный чопорный академизм в плане повествовательной палитры.
Это не недостаток текста, а его особенность. Если мы ищем классической красоты (а классическая красота подразумевает и определенный набор эмоций, который мы должны испытывать при ее лицезрении), то найдем ее здесь в избытке. Если нам интересна работа едкого ума или то, что можно счесть привлекательным в результате интеллектуальной спекуляции – лучше обратиться к иным книгам. Что мы точно не должны делать – так это предпочитать ум красоте или наоборот. И то, и другое самоценно и может служить основой для повествования. Наша обязанность как читателя – понимать, что превалирует в разбираемом тексте.
Пример «красоты, пренебрегающей умом» - мироустройство «Детей разбитого зеркала». Для начала заметим, что во всяком тексте поступки героев определяются системой ценностей; она же, в свою очередь, прямо вытекает из устройства вторичного мира, его онтологии и метафизики. Таким образом, автор, заботящийся о целостности своего произведения, обязан сформулировать эти категории так, чтобы из них естественным образом вытекало то, что в данном мире будет считаться добром или злом, грехом или святостью. Противоречия, путаница и избыточность на данном этапе конструирования вторичного мира влекут за собой аксиологическую расплывчатость: герои совершают действия, но мы не в состоянии понять, хороши эти поступки или дурны, что в свою очередь не позволяет нам оценить самих героев – сообразно не столько нашей, сколько их собственной системе ценностей. Применительно же к «мистическому роману» подобные изъяны могут обернуться проблемой, ибо текст, чья задача – демонстрировать определенный духовный путь, заводит нас в тупик или ставит перед множеством тропинок, среди которых нет истинной. Проблема эта не является критической, если мы рассматриваем повествование исключительно как красивую и эффектную картину, однако на нее стоит обратить внимание в том случае, когда от книги мы ждем ответов на важные для нас вопросы.
Итак, вот ключевое предание «Детей разбитого зеркала»:
Это было давно, в те времена, когда Господь был един, и люди узнавали Его голос, когда Он обращался к ним. Мир тогда был совсем другим, другой была земля, другими моря и горы. И у мира был центр.
Высоко в горах, там, где воздух разрежен и чист, в месте, где небо никогда не затягивается облаками, существовало круглое озеро вулканического стекла, озеро столь совершенной красоты, что невозможно было не признать его священным. Это и было Зеркало. И в этом Зеркале, по преданиям, нескольким праведникам дано было узреть отражение лика Господа нашего Адомерти. Многие паломники искали подобной благодати, но путь в горы тяжёл, их холодный сухой воздух вреден для здоровья, и на полпути большинство сворачивало назад, разумно предпочитая жизнь во славу Господа столь достойной смерти.
К тем же немногим упрямцам, которым доводилось увидеть, как поднимаются над Зеркалом созвездия, отражаясь в его тёмной неподвижной глади как никогда ни в одном из водоёмов, с абсолютной точностью и симметрией - навсегда приходило понимание того, что внизу и вверху - одно, что Царство Божье на земле как и на небе, и что вся земля - Его Зеркало.
Неизвестно, что чувствовали те, кто осмеливался пройти по его прозрачной, бесконечно глубокой тверди. Простое действие становилось мистическим таинством. Душа человеческая переживала в этот момент присутствие Неизъяснимого и становилась на краткий миг словно бы более, чем только человеческой душой.
Но некто по имени Иломас сподобился большего. Однажды Иломас пришёл на берега Зеркала, принёс жертву Господу и остался там жить на целых тридцать лет. Редкие паломники доставляли ему еду и воду. Этого было очень мало, но Господь не оставлял его, поддерживая жизнь в изнурённом аскезой теле. Тридцать лет взывал к Господу Иломас.
Однажды поздно вечером, сидя на берегу, умирающий от жажды и истощения Иломас увидел идущего по Зеркалу человека. Человек шёл вброд по обсидиановому озеру, поднимая рябь на его стеклянной поверхности, и звёзды мелькали в набегающих на берег волнах.
- Господи! - воскликнул праведник и упал на колени.
Ангел нагнулся, зачерпнул воды из озера и плеснул Иломасу в лицо.
- Пей!
- Благодарю, Господи!
И когда отшельник напился и набрал воды про запас, вода снова стала стеклом, а Ангел сидел рядом с ним.
- И зачем? - спросил он чуть погодя.
- Что зачем?
- Для чего ты себя истязаешь?
- Чтобы заслужить твою милость, Господи!
- Её нельзя заслужить.
- Тогда что же мне делать? Всю жизнь я пытаюсь доказать Тебе свою преданность, и, вот я, недостойный, всем сердцем своим, всей душою, молю тебя: окажи мне, Господи, милость.
- Чего ты хочешь?
- Будь со мною, Господи.
- Я всё это время был с тобой.
- Дозволь мне видеть Тебя во всей Твоей силе и славе, лицом к лицу, чтобы узнать тебя так, как просит сердце моё, знать наверняка, знать воистину, Господи.
- Это невозможно.
- Есть ли что невозможное для Тебя, Всемогущий?
Ангел с досадой хлопнул себя по колену.
- Сотня грешников не стоит одного праведника, если нужно оказать дурную услугу миру. Будь по-твоему. Но, может, ты согласишься взглянуть на меня со спины?
- Не отворачивайся от меня, прошу. Я готов умереть пред Твоим лицом.
- Ты бы сгорел, даже не успев его увидеть. Ох, дитя, есть причины, по которым я не могу тебе отказать. Что ж, смотри.
И страшное костлявое дитя, опутанное, как коконом, собственной бородой, увидело вот что:
Столб ослепительного света встал над озером. Было непонятно, упал ли свет сверху или шёл из самых глубин. Ангел подобрал с земли малый камешек и швырнул его в свет. Стеклянный монолит содрогнулся с протяжным низким гулом и распался на семь кусков, разделённых глубокими, расходящимися веером трещинами. На краях осколков заиграла радуга, как это бывает на очень прозрачном льду.
Белый свет вспыхнул огромной, обжигающей зрение молнией и разделился на семь цветных столбов, над которыми царственным венцом распростёрлось радужное сияние, невиданное прежде в здешнем сухом и разреженном воздухе.
Огненные столбы приобрели человеческие очертания, а несколько позже и лица.
Иломас не мог определить выражения лиц,- так дрожала вокруг фигур раскалённая атмосфера, но заметил, что с одной стороны лица были мужские, с другой - женские. Лишь фигура посередине оставляла сомнения на этот счёт, словно примеряя на себя поочерёдно то женственность, то мужественность.
Ангел простёрся ниц.
- Ты видишь, - сказали семь сущностей одним голосом, заполнившим всё окружающее пространство, - Кто Я и Кем Я могу быть для тебя, дитя.
Я есть Любовь.
Я - полнота и избыток, ни в чём у меня недостатка.
Я - Сила.
Я есть Свобода, и ваша свобода - во мне.
Я - Мудрость.
Я - Справедливость
Я - Жизнь и всяческое произрастание.
И всё же Я более, чем может вместить этот мир или ум. Я - Сущий. И Я - Единый.
Знать же, Кто Я для Себя не дано человеку на земле и ангелам Моим на Небесах не дано. Отныне же на Земле и на Небе будет ведом разный Мой образ. Для человека теперь он останется разделённым, ибо твоё желание, Иломас, разбило Зеркало.
- Но разве...- заговорил было праведник, и остановился, увидев, почему случившееся непоправимо.
Медленно гас в воздухе сияющий венец, объединявший фигуры, ставшие высокими мужчинами и женщинами в красном, оранжевом, жёлтом, зелёном, голубом, синем и фиолетовым одеяниях. Но лишь одна из них отбрасывала тень, небывалую в это время суток и на этой планете.
Духовная сущность, облачённая в зелёное, чей изумрудный свет всё ещё просачивался сквозь видимость телесности, попыталась выйти из чёрной тени, протянувшейся к её ногам словно бы из другого мира, из Пустоты, Мрака и Хаоса, предшествовавших Творению.
Но тень не выпустила её.
По ней, как по дороге или тоннелю, приближался кто-то ещё. Высокий, безликий, чёрный. От его черноты веяло таким бесконечным ужасом, таким отчаянием небытия, что Иломас обомлел, и свет померк в его глазах.
Последним, что он увидел, было объятие, в которое бесформенная чёрная фигура заключила сверкнувшую изумрудной звездою зелёную, будто бы сплавившись, слившись с ней воедино.
Когда Иломас очнулся от обморока, с ним был только Ангел. Из ангельских глаз бежали слёзы.
- Отравленное яблоко,- сказал Ангел. Почему вы всегда выбираете его?
- Что я выбрал?- спросил Иломас.
- Свободе в Господе ты предпочёл свободу вне Господа, пожелав того, что не было Его волей.
- Разве есть что-то вне Господа?
- Нет. Да. До сих пор оно не было "чем-то". Теперь это Дух. Ты впустил его в мир, дитя. Теперь вы узнаете, что такое Добро и Зло. До сих пор лишь Ему приходилось пить чашу этой страшной свободы.
И Ангел покинул Иломаса.
Тот вернулся в мир.
Иломас стал первым из пророков, предсказавших Последние Дни.
И он же открыл для людей, что Создатель послал к ним в знак великой милости семь Великих Ангелов, семь Духов, которых люди после назовут богами.
Никто ещё в те времена не знал, не боялся и не ненавидел Падшего Ангела, тёмного бога.
При первом прочтении оно производит сильное впечатление: перед нами история богоотчуждения, своего рода - богораздробления, космическая катастрофа, определившая дальнейшую судьбу мира. Но стоит первому впечатлению поостыть, как разум вступает в свои права и начинает задаваться вопросами.
- Почему, собственно, произошла катастрофа? Праведник просил о мистическом откровении, является ли оно, это откровение, чем-то греховным и разрушительным? Каким образом лицезрение Господа во всей славе может привести к раздроблению Его образа? Это очень странный момент, который исторически должен бросить тень на все практики мистического слияния с Богом (а этого в первой части книги, кажется, нет вовсе)
- Разговор с ангелом оставляет ощущение нечестности божества. Он говорит об отравленном яблоке, подразумевая плод с древа познания, однако в истории с яблоком наличествовало вполне конкретное условие, известное с самого начала: Бог предупредил Адама и Еву ДО того, как они вкусили запретный плод. Здесь же о вреде исполнения своего желания праведник узнает СПУСТЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ после начала аскезы, то есть тогда, когда ему, мягко говоря, поздно отступать от задуманного. Может ли считаться грехом то, что совершено по незнанию – ведь о правилах отшельнику было неизвестно до самого конца? Никто не устанавливал запрета на аскезу, и Бог, кажется, покровительствовал ему в этом деле.
- Самое решение божества выглядит издевательским: преданность и любовь он вознаграждает отторжением и всю вину возлагает на человека. Вообще все поведение ангела, когда праведник просил явить ему Лик Господа, выглядит практически как пассивная агрессия: это невозможно, этого делать нельзя, но я, так уж и быть, сделаю, но виноват будешь ты
- Как и положено сомнительной метафизике, эта история вынуждена изобретать дополнительные сущности для проблем, которые уже имеют необходимое освещение. Это касается Князя Тьмы, который пришел из пустоты, предшествовавшей Творению. В этом плане «Дети разбитого зеркала» напоминают «Черную книгу Арды» с ее Тьмой, Пустотой и пр. Все это здесь нужно затем, чтобы дать свою версию появления зла: Князь Тьмы слился с духом, воплощающим свободу, отчего последняя оказалась осквернена. То же самое христианство справляется с труднейшим вопросом свободы без привлечения дополнительных сущностей; стоило ли здесь городить огород?
- Легенда вдохновлена зороастризмом, но Ахура-Мазда никогда не дробился на отдельные сущности: Амеша-Спента – это не плод распада, а самостоятельные сущности, которые и действуют по своей воле и репрезентируют в то же время отдельные качества верховного божества (двое к тому же постоянно стоят у трона владыки всего сущего).
Есть в этой легенде и другие сомнительные моменты, обсудить которые лучше непосредственно с автором. Причина такой сомнительности лежит на поверхности: перед нами плод эклектики. Сама по себе, эклектика – не всегда плохо. Вопрос в том, сплавляются ее элементы в устойчивую амальгаму и создают новую ценность или же служат исключительно украшением, способом вызвать нужный эффект без оглядки на осмысленность целого.
Столь много внимания центральной легенде текста мы уделили потому, что из нее проистекает главный конфликт: «дети разбитого зеркала» - те самые два наследника этой древней ситуации, Спаситель и Губитель мира. По прочтении одной книги трудно говорить, как будет разрешено противостояние, но отрадно было бы видеть, что разрешится оно с использованием основного мотива легенды, своего рода «искуплением» первоначального грех. Разумеется, на этот счет есть и опасения: при всей расплывчатости смысла легенды в ней трудно выделить грех, а, следовательно, непросто найти и искупление. Есть риск, что оно придет как решение, не связанное вообще ни с чем; такова, как уже было сказано, проблема книг с неясной системой ценностей.
Вместе с тем, не может ли эта неясность быть по-своему привлекательной? В полутьме недостатки любовников скрадываются, наше воображение дорисовывает партнера по тому идеальному образу, что существует у нас в голове. Неясность возможно назвать и плодотворной: сама потребность в уточнении рождает простор для интерпретаций. Мы не оправдываем такую туманность в данной книге, однако не вправе отрицать ее известную соблазнительность: многие вещи значительны именно в неясности, при ярком свете они теряют все свое очарование.
Что же следует думать о «Детях разбитого зеркала»? Перед нами книга, интересная своими эффектами, интересная в становлении и развитии, однако озадачивающая по завершении. Мы максимально увлечены, пока следуем ее извилистому хребту, обдумывание доставляет удовольствия уже меньше. Возвращаться к ней стоит за отдельными эпизодами, где игра цветов достигает своего пика.
В этом ее горечь, но в этом и сладость. В конце концов, даже если нас не устраивает значение картины, мы всегда вправе сказать, что задача художника – демонстрировать могущество собственных красок.
