Рецензия на роман «Чудные»
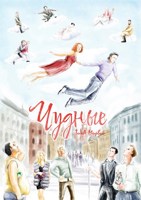
«Ничего подобного отродясь я не писал, мотивы совершенно для меня новые,
и я боюсь, как бы не подкузьмила меня моя неопытность».
А.П.Чехов, письма.
В кинематографе есть такой жанр: «Slapstick» – комедия, выстроенная вокруг «физического» юмора. Он же фарс, комедия «пощёчин». Герои в таких фильмах постоянно попадают в нелепые ситуации: неуклюже падают, щедро раздают пинки, карикатурно закатывают глаза, дерутся, промахиваются, устраивают погони, поскальзываются на банановой кожуре… Приёмы, рассчитанные на взрывы хохота у зрителя крайне недалёкого, нетребовательного.
Кулак Сергеича промазал мимо физиономии Моцарта и попал аккурат по очкам доктора-писателя. (…) Солнце русской поэзии вовремя успело отпрыгнуть в коридор, иначе быть бы ему битому табуретом, и рвануло по квартире. Трёхминутный забег Пушкина и Глюка закончился очень резко.
Насколько же уместен этот подход к истории про Искусство – судить читателю.
«Чудные» – роман, повествующий о людях творческих – гениальных и посредственных – находящихся на распутье, утративших вкус к жизни. Вернуть их в объятия Музы, переосмыслить своё существование – задача божественных посланников. И каких!.. Признанных музыкантов, писателей, а то и просто людей высоконравственных, щедрых сердцем.
От этого взаимодействия ожидаешь тщательно вырисованной эволюции персонажей, сложной работы по преодолению себя, ломки, боли, прогресса, катарсиса в конце… Получаешь «санта-барбару». Когда счастливый финал сводится лишь к распутыванию клубка недоговорённостей между персонажами. Был недостаток информации – всем было плохо. Всё прояснилось – всем стало хорошо. А персонажи кем были, теми и остались. Ну, разве что пить меньше стали.
Изначально неясна цель посланников в таком случае. Сделать своих подопечных счастливыми? Так на это и обычные ангелы-хранители есть. Личным примером показать, вытащить на поверхность добродетели, скрытые до поры в чёрствых душах? Нет. Разве на Фёкле как-то отразились известные достоинства Одри Хэпберн: трудолюбие, упорство, мягкость, деликатность, отзывчивость?.. Развить их талант? Так ведь и об этом почти ни слова…
Хорошего психотерапевта им всем не хватало, а не ярких исторических персоналий.
Обилие персонажей (даже при самом вдумчивом чтении) сбивает с толку, короткие главы (97 глав!), постоянная смена героев – вызывают мельтешение в глазах. Лишь к последней трети книги хитросплетённые связи между ними обретают, наконец, ясность, а до того вызывают лёгкое раздражение. Не спорю, это смелая заявка – ввести несколько линий персонажей и довести их все до конца. Но сжальтесь над читателем! Даже Лукьяненко в своих «Осенних визитах» (первая ассоциация по сюжету) довольно быстро избавился от значительной части героев, чтобы не потерять главное – внимание и интерес чтеца.
А ещё сложнее следить за судьбами персонажей потому, что они… практически неотличимы друг от друга. Да, они разного пола, разной внешности, живут в разных условиях, имеют свои истории. Но они говорят и мыслят на одном языке. И, к сожалению, на том же, на котором льётся и авторская речь. А ведь именно в мыслях и диалогах раскрывается личность, черты характера! Но как же их различить, когда все поголовно орут, визжат, грубят, канючат, бьются головами, закатывают истерики, падают и сучат ножкой? Когда в речи их нет стилистических различий, потому что говорят все на одном уровне – капризного ребёнка? В лучшем случае, пэтэушника.
Единственная попытка раскрасить речь была предпринята у Бетховена. Но ведь немец, говорящий по-русски, – это не только сплошь инфинитивы да ошибочные склонения…
Самое страшное, что у автора постоянно сквозит пренебрежение (если не презрение) к собственным персонажам. Все-то у него «овцы», «непоправимые дуры», «чудаки на букву «м», «особи»… И это не оценки героев друг другом! Это личное отношение автора к ним – творческим людям, служителям культуры.
Все они предстают эмоционально незрелыми личностями: инфантильными, чуждыми морали. Собственные их чувства поверхностны, к чувствам других уважения не испытывают, они не способны нести ответственность за собственную жизнь, бросаются в крайности. Материальное благосостояние представляется им высшей целью, им они и кичатся – а больше нечем. Давят в зародыше те, «настоящие», идеи, что не принесут им выгоды, и сами же от этого страдают. И мало того, что человек творческий рисуется автором как исключительно «тонкая натура», утрированно истеричная, так им ещё непременно до́лжно быть алкоголиками, слабохарактерными личностями. Шаблонно склонными к беспорядку.
Все они – неопрятные, похмельные либо пьяные, помятые, засранные… Падшие. А ведь пасть и по-другому можно. Депрессия, творческий кризис проявляются очень по-разному.
И вот, казалось бы, какой контраст по сравнению с ними должны являть посланники! Люди бесспорно талантливые, хара́ктерные… Увы.
Пушкин, Чехов, Моцарт здесь – те же гопники, иначе не скажешь. Так же кривляются, бегают по кругу, изъясняются междометиями. Их речь (боги, хотя бы писателям оставьте их собственную, вдоль и поперёк разложенную литераторами, манеру!) ничем не отличается от речи подопечных.
Знание исторических персоналий крайне поверхностное, и в этом видится большое неуважение к ним. Ну, помилуйте, как бы Александр Сергеевич мог сказать такое:
Не надо, Илья, дуэль – последнее дело, по себе знаю. Пойдём ты мне расскажешь про своего Боровича. Я даже почитаю…
Это Пушкин-то! Матёрый острослов, мастер эпиграмм, да что уж… известный сукин сын! Или это:
…вчера из-за чуши собирался какого-то парня на дуэль вызвать. Пришлось отговаривать. Я знаю, о чём говорю…!
Учитывая, что Пушкин-то как раз дуэли крепко уважал (29 эпизодов, шутка ли! И зачинщиком, по большей части, был он сам, а уж поводы были самые пустяковые!), то сказать он такого никак не мог. Наоборот, поддержал бы, раззадорил, сам поучаствовал. А ещё лучше: устроил бы литературный баттл в стиле Оксимирона с Гнойным, раз уж автор часто тащит в историю многие события современности.
Если идёт взгляд со стороны А.П.Чехова, то пусть и он размышляет в присущей ему литературной манере – спокойной, ясной, размеренной. Всего-то несколько его писем почитать! За его же мысли тут выдаётся следующее: «напрягала её усталость», «похожий на размякшее и протухшее мороженое Дима не оставлял шансов». Или вот это среднеуральское в устах классика: «Ну так-то да...». А уж поведение…
Из большого кирпичного дома (…) устремился дико хохочущий Чехов. (…) Чехов, невидимый, всё это время давился хохотом на подоконнике (наблюдая сцену порки мужа ремнём – прим.рец). Палычу удалось улизнуть почти тихо – он не удержался от того, чтобы напоследок заскочить на кухню и врезать Димасику веником. Под его крики он и полетел за МКАД.
А чтобы Одри Хэпберн называла саму себя «необразованной овцой» перед Пушкиным? Или: «в этот раз решила не палиться» и воспользоваться дверным звонком?
Моцарт же просто крадёт вещи из магазина и ничуть не стесняется того… И это небожители, посланники бога?!..
А ведь как это могло быть ярко, будь Довлатов, Пушкин, Чехов в истории – действительно Довлатовым, Пушкиным, Чеховым!.. Это к вопросу о достоверности событий. Даже в рамках фантастики критики она не выдерживает никакой.
К логике повествования тоже остаются вопросы. Посланники, карикатурно толкаясь, бегут и прячутся в комнате, их там обнаруживает и кусает собака. Притом, что они в один момент могут становиться невидимыми и неосязаемыми, что подчёркивается не раз. Или удивляются холодильникам и дверным звонкам, но при этом цитируют советскую киноклассику…
Перед Богом же посланники, все эти Мастера Ноты и Пера, властители душ человеческих, и вовсе предстают нашкодившими детьми. Жалобщиками, инфантилами, неумехами.
– Бог, он первый начал, – выкрикнул Моцарт.
– Бог, он меня задержал (…), – заныл Сергеич (Пушкин – прим.рец.).
– Заткнулись оба! – Бог не часто повышал голос, но тут его реально вывели из себя.
– Бог, за что? – заканючил Моцарт. – Это же Сергеич первый начал драку. Он очки разбил, он Палычу (Чехову – прим.рец) фонарь организовал, а меня в Забвение?
Да и сам Бог – кто он здесь? Нянька? Папаша-добряк, которого ни в грош не ставят? Скорее, прораб на стройке, если, рассуждая о гениях, может позволить себе сказать: «Иногда гений (…) ленив, как падла».
Все эти «дрыхнет», «голимый», «фигня», «напряг», «выпал в осадок», «прибарахлился» автор активно тащит из разговорной, повседневной речи в речь литературную. Вероятно, рассчитывая, что эти просторечные обороты привлекут аудиторию, сделают язык более понятным. В диалогах героев – ещё куда ни шло, но самому говорить с читателем, будто бы сидя на корточках и потягивая пиво?
Эффект, к сожалению, обратный – это выглядит грубо, а зачастую и отталкивающе. Нет, не спорю, как «слэпстик» имеет своих фанатов, так и на этот культурный пласт найдётся свой читатель. Одобрительно гогочущий и показывающий большие пальцы на очередной «овце».
Но, по мне, юмор этот откровенно тяжеловесный. Бронебойный. Чтобы уж наверняка. И не в последнюю очередь потому, что инструментом его выступают избитые фразы, набившие оскомину цитаты, многочисленные шаблоны. «Небо в клеточку», «пушистый зверёк» ("белочка", в смысле, делирий), «не в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил», «Бориса всё больше терзали смутные сомнения», «испортил ему всю малину», «не тронь меня, старушка, я в печали»…
Да и сам язык сложен для восприятия, избыточен, перегружен словами и смыслами. Предложения длинные, часто не согласованные, набитые под завязку эпитетами.
Часто можно встретить такое:
доцент биофака цитадели знаний на Ленинских горах
достигший недавно возраста сына еврейского плотника
по окончании обучения в главной киноцитадели в доме номер три на улице имени немецкого коммуниста
сорокаградусная валерьянка армянского производства
в синей соцсети
Отчего бы не назвать все эти вещи своими именами? Эти «красочные» замены простых слов и названий лишь отвлекают от основного смысла фразы, несут дополнительную нагрузку для восприятия.
Или вот пример:
…смущало высокой вероятностью трансмурального «инфаркта микарда» при встрече с посланниками…
К чему эта избыточность речи? Если уже используется одна, ставшая практически народной, цитата из кинофильма, зачем усиливать её узкоспециальным термином? И ладно бы это была мысль врача – такой его специфичный внутренний юмор, но ведь ни один из трёх персонажей этой сцены к медицине отношения не имеет вовсе!
А ведь в отобранных героях ходит не кто иной, как сам Антон Палыч… Как его тут не процитировать:
«Искусство писать состоит собственно не в искусстве писать, а в искусстве вычёркивать плохо написанное».
На том, пожалуй, и остановлюсь, хотя ещё на многое хочется обратить внимание. Неверное употребление некоторых слов и речевых оборотов, пунктуация, недостаточное чувство ритма, ошибки в использовании иностранной речи. Неуместность в литературном произведении собственных политических взглядов автора на современные события, что чётко читается между строк…
Любовная линия раскрывается поздно, ближе к концу. И, хотя автор относительно убедительно обрисовывает все обстоятельства, ощущение «санта-барбары» не покидает. А уж верить ей или нет – пусть читатель сам для себя решает…
Пожелаю автору творческих успехов и лёгкого пера. Чуть более лёгкого пера…
С уважением, Анна.
