Рецензия на повесть «Остров откровения»
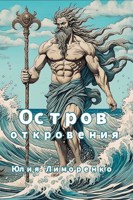
«Закрой глаза и думай об Англии». Кхм... Вырвалось.
Несмотря на то, что рецензия выходит с заметным опозданием, прочитана книга давно, и здесь останется скорее обдуманное, взвешенное послевкусие, чем свежие впечатления. Кое-что, впрочем, не изменилось даже спустя время, и об этом первым пунктом:
Стиль повествования.
Я редко (почти никогда) говорю в своих недорецензиях о языке книги и стиле написания, ибо: а чтобы что? Но тут случай особый. С книгами Юлии я уже знакома, что меня ждет, представляла, и все-таки... То, насколько легко и специфически приятно читается повесть, несмотря на тяжелые, жестокие темы и, прямо скажем, такие себе по современным меркам нравы, точно стоит отметить отдельно. Стилизация приятна и не перегружает, мракота творящегося изящно соседствует с атмосферой древнего солнечного острова, и все это хитросплетение, полное мистики и своеобразной дикости, действительно захватывает. Я не отметила тогда и не могу припомнить теперь момента, когда хотелось отложить книгу, сказать себе стоп и немного передохнуть — история действительно читается на одном дыхании.
Общие впечатления и сюжет.
Итак, что ждет под обложкой? Миф. Многослойный, глубокий, продуманный и, судя по другим комментариям и рецензиям, начавший, таки, жить собственной жизнью, обретать иные грани и смыслы, а чего еще вообще надо от мифа? Признаюсь, иногда впечатления остальных читателей узнавать было не менее увлекательно, чем саму историю.
Архаика во всем своем разнообразии: с мистическим мышлением, обрядовостью, преобладанием социального над личным и жесткой иерархичной структурой. В общем, много милоты, от которой у впечатлительного человека может начать нервно подергиваться глаз. Но что поделать — мир не всегда был пропитан идеями гуманизма, свободы воли и равенства. Он и сейчас ими не особо старательно пропитан.
Наверное, если попытаться записать мои впечатления от сюжета одной фразой, получится что-то такое: это история о человеке, возомнившим себя равным богу, и о боге, который слишком увлекся игрой в человека.
Бог острова Энклас.
Если уж говорить прямо, по меркам описываемого в повести временного периода безымянный бог просто чудо как хорош, солнышко и редчайшее сокровище. Это вам не Зевс с его олимпийцами, всякое приключение которых оканчивалось если не большой войной, так уж мелкой местечковой резней брат на брата (отец на сына / дядя на племянника / очередной полубожественный сынок громовержца на кого угодно просто от скуки или во славу коварства родственничков).
Бог острова Энклас на их фоне воплощение законности, милосердия и даже специфической гуманности. Такой... зачаточной. Он устанавливает справедливые (ну, по тем меркам) порядки, требует соблюдения понятных правил, благословляет и даже, о ужас, если уж обещал защиту, таки защищает и помогает (некоторые представители греческого пантеона тут, вероятно, поперхнулись амброзией).
Он прокатывается по соседским островам, точнее — прокатываются его люди, сам он несколько в ином статусе, — с минимальным кровопролитием показывают, кто тут кому кланяться должен, собирают положенную дань и уматывают домой, вознаграждая послушание обещанием божественной благосклонности. В общем-то, уже изумительно миролюбиво по меркам того времени, учитывая, что благосклонность вполне себе имела место быть, города не обратились в руины, представители их приезжали с посольствами свободными людьми, а не бродили по округе рабами, и по дороге бравое божественное войско еще, судя по всему, усмирило пиратский притон, откуда как раз родом главный троянский коник всей этой истории.
И именно безымянный бог, как ни удивительно, раскрывается в повествовании не некой мистической, неодолимой силой, а человеком. Мужем, любовником, отцом, властителем, полководцем, правителем. Его настолько много в жизни людей, что некоторые начинают временами сомневаться в его божественности. Не все, но пары-тройки уникумов всегда было достаточно для того, чтобы на ровном месте сообразить проблему. Сам же бог производит впечатление некой... мифической скуки. Ну вот утомили его все эти божественность, могущество, безвременье, а тут смертные под боком, можно глянуть, повеселиться, заодно порядок навести и выяснить, чего у них есть интересного. А заигрался он от того, что люди, кажется, почитают его настолько, что чуть-чуть, самую малость, забывают бояться. Ему-то без разницы, а вот подопечным от такого бывает больно.
Конь троянский Дар Этрерский.
Среди даров, призванных умилостивить бога, плывут к нему невестами островные царевны. Одной из них даже хватило ума выяснить, что подразумевает ее новая роль, чего делается с невестами в ходе... кхм... бракосочетания, и вообще куда ветер дует. Но это, конечно же, была не умничка Янте.
В общем-то, учитывая, что книга начинается с заседания суда, а царевна там на скамье обвиняемых, понятно, что что-то пошло не так. Но девушке даже немного сочувствуешь — известно же, какие нравы и отношения царили в те времена — пока ду дар Этрерский не открывает рот.
У автора изумительно получилось выписать царевну так, чтобы, оставаясь для читателя живой, загнанной в угол, обвиненной и сломленной, она с первых же абзацев вызывала только одно желание — посильнее приложить канделябром по пустой черепушке. Прямо просыпается пророческий дар, подсказывающий, что это избавит от проблем многих. Очень многих.
Эгоистичная, мстительная, завистливая и черствая, она в своей глупости плавает слишком мелко, чтобы стать новой Медеей, но гадит пусть прямолинейно и без капли хитрости, а со старанием и азартом. Причем, всем, начиная от слуги и заканчивая богом. Ей вообще без разницы — она же родилась царевной. Почему-то в головушке Янте это означает великую власть, а пример вечно беременной матери, уроки наставника, личный опыт проходят где-то мимо, не цепляя сознания. Ну не бесконечно же ей рожать детей, право слово, она должна сидеть и командовать царем, а ей тут какого-то захудалого бога подсовывают!
В сухом остатке Янте не способна на светлые чувства — ей движет зависть и жажда власти, ради которых она готова использовать всех, включая собственного сына. И хотя я читала мнение, что царица — любящая мать, у меня не сложилось подобного впечатления. Она холила мальчика, чтобы кинуть его на алтарь, тот самый, на котором оказалась сама. А когда не удалось с сыном, быстро отыскала себе нового агнца с теми же целями. О судьбе же дочери деликатно промолчим. Действительно, любящая мать, ну просто воплощение нежности и ласки. Она возомнила себя богиней, захотела этого, и на тот самый алтарь готова была отправить все и всех, включая собственный родной остров, ее выходками потерявший благословение бога, а то и обретший проклятие.
Более подробно останавливаться на ней бессмысленно — в книге Янте говорит лично, все выводы можно сделать самостоятельно. В качестве заключения отмечу лишь одну маленькую деталь — Антоссу божественной называют слуги и жрицы, Янте этим титулом нарекает себя сама.
