Рецензия на повесть «Остров откровения»
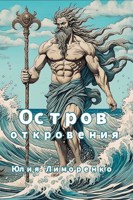
Я буду им хорошим императором и проведу их по пустыне человеческих смыслов (с)
Начнём с того, что "Остров откровения" - хорошее название, весьма объёмно отражающее смысл повести, по крайней мере, как я его понимаю.
Христианская традиция утверждает, что Бог создал человека по образу и подобию своему, история же шепчет, что за время существования человеков куда больше богов были созданы по образу и подобию людей. Чем бог древнее, тем он жёстче, мстительнее, кровавее. Чем плотнее у последователей бога наноплёнка цивилизации, тем чаще он начинает проявлять милосердие и даже некоторую склонность к справедливости.
Если подходить формально, бог Энклас - это татаро-монгольский хан. Собирание вассальных земель, понятные правила игры, необременительные налоги, в том числе знатными пленницами. И вуаля, сам не заметил, как бежишь к нему за ярлыком на княжение. Удобно же.
Син так и поступает: вместо похищения царевны едет наместником бога на собственную родину. Почему? Потому что царевна ему не ради её прекрасных личных качеств понадобилась, видимо, а, скорее, пытался он её счастливую судьбу устроить из преданности к царю, возвысившему конюха до воина. И вообще парень патриотичный, не может видеть, как наших обижают. И хан-бог поступает мудро, предоставив ему возможность заботиться о родных пенатах: вместо очередной войны и кровавых подавлений партизанщины увеличение доходов в казну.
Но в метафорическом плане всё гораздо изящнее. Был у меня как-то рассказ про Холодное зеркало, в котором раз в году можно увидеть собственную сущность, очищенную от поверхностных наслоений. Ибо, да простится мне самоцитата:
– То, что видят наши глаза – результат наложения большого количества разнообразных картинок. То, что мы ожидаем увидеть, то, что нам внушали с детства, то, о чём мы мечтаем, то, о чём знаем или думаем, что знаем… сотни, если не тысячи нюансов, помимо собственно солнечных лучей и их скромной ноши. [...] Характерные особенности, отличающие одного от другого, легко можно скрыть дешёвым флёром затасканных слов.
Лицо бога не зря скрывается маской, потому что оно - такое вот холодное зеркало, бесстрастно отражающее человека. Для того, у кого на душе мир и покой, кто ощущает себя гармоничной частью окружающего, это лицо прекрасно - лицо любящего отца или мужа. Для того, кто мечтает "весь мир насилья до основания разрушить", из под маски блещет молния громовержца. Не потому, что таков сам бог Энклас, а потому, что такой властительницей мечтает стать Янте. А Сину бог говорит, раз ты такой патриот, так и иди работай на благо Родины.
Таким образом остров действительно становится островом откровения - откровения о самих себе. Это нечто вроде Элевсинских мистерий: со спокойным духом перейдёшь Ахерон по лунной дорожке, но смущённый страхом, сомнениями и ненавистью, будешь увлечён на дно химерами собственного сознания.
Однако перейдём к образу Янте. Исключительно удачная задумка и реализация, на мой взгляд.
Янте вводится в архаичный антураж ярким акцентом на грани анахронизма - это подчёркивается в том числе и стилистикой. От её лица повествование идёт современным слогом, в отличие от речи судей. И не удивительно - типаж Янте это типаж человека современного атомизированного общества. Эгоцентричная, не обеспокоенная ни честью, ни судьбой рода, Янте выглядит на фоне Ксиллии и Антоссы какой-то попаданкой. Её не увлекают ни таинства, ни мистерии, в том числе так великолепно описанный обряд символического оплодотворения поля (особый респект автору за не стареющую классику).
Так что, дар этрерский можно считать анахронизмом? Едва ли. По крайней мере сейчас, в нашем формально постиндустриальном обществе людей с махровой феодальной моралью можно наблюдать невооружённым глазом в количествах явно больше статистической погрешности (Это, например, те, кто считает завоевательные войны и захват рабов для заселения собственных пустующих земель основой величия и благосостояния).
Люди существа сложные и не линейные. Да, среда, да, эпоха, да, система, да, семья и традиции. Но не угадаешь, что в итоге сформируется благодаря, что вопреки, а что просто из чувства противоречия. Итоговый букет точно не спрогнозируешь, и сколько тут собственной человеческой воли, а сколько определялось внешними факторами - вопрос дискуссионный. (Кстати, именно изящное обрамление из судьи-защитника и судьи-обвинителя на эту дискуссионность отлично работает).
Я скажу даже больше - история рассказанная Янте с точки зрения именно той Янте, которая яростно задирает обоих судей, явно из соображений "лучше ужасный конец, чем ужас без конца", могла бы выглядеть совершенно иначе, рассказанная беспристрастно от третьего лица. Мне этот художественный приём очень напомнил эпизод из "Американских богов" Геймана, где Лора Мун в Чистилище задиристо рассказывает свою историю "плохой девочки" толкнувшей отца на дорожку разврата и резво поскакавшей вниз по собственной доброй воле. А потом ей показывают эти же события со стороны, и она видит, что была просто ребёнком, а ответственность лежала на взрослом. Но как? Ведь память сохранила это по-другому!
Таково уж свойство памяти. Мы помним не то, что было, а то, что привело к тем последствиям, которые мы тут разгребаем (касается и коллективной памяти тоже).
Янте рассказывает свою историю так, как будто она всю дорогу была такая вот прожжённая стервь. Но так ли это на самом деле? Как сказал один из судей: с тех пор она изменилась. Она рассказывает о том, что рассматривала сына лишь как оружие будущей мести и власти. Но с этой целью имело бы смысл развивать в нём мстительность и жестокость, с детства настраивать против отца и учить готовить к поединку с ним. Она говорит, что ненавидит дочь, но девочка не знала от неё ни побоев, ни унижений вплоть до роковой минуты убийства.
В метафорически-символическом смысле дети Янте тоже очень интересны. Они, как говорит бог Энклас, тоже боги, а потому обладают своей волей. Сын выбирает принести себя в жертву ради спасения тех, кто в него верит (что ж, боги в самом деле так и поступают), а дочь... тоже фактически приносит себя в жертву в последней попытке вернуть гармонию в душу матери, заставить её в последнюю минуту отказаться от самоубийственной затеи.
И в финале, намеренно пытаясь разозлить судей, она требует от них казни как милосердия. Ведь увидеть лицо бога в метафорическом смысле будет значить заглянуть в собственное "Я" так глубоко, что это внушает ужас. Ужас сильнее страха смерти. Отличный финал.
Помимо этого всего текст густо пересыпан прекрасными отсылками и выразительными деталями, как в метафорическом, так и в сюжетном плане, вроде поединка бога со своим сыном как с самим собой, но я уже не стану на них останавливаться, потому что надо и честь знать.
Читайте сами 