Рецензия на роман «Сказание об Эйнаре Сыне Войны. Часть Первая. Героическая»
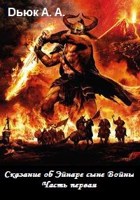
Нетрадиционное (для меня) предисловие. Мантры в стиле "я пишу несерьёзное чтиво со шлюховедьмочками" в данном случае работать не будут. Автор не раз и не два заявлял о собственной планке и подходах при оценке текстов, чем наглядно продемонстрировал, к чему может быть готов сам. Ок. Наливаю себе стакан светлого нефильтрованного красного сухого и... Поехали.
Основной объём текста первой части "сказаний" я читал в самолёте. И, признаться, это был один из самых скучных моих полётов. И это странно, ибо практически с аннотации автор намекает на то, что текст будет с уклоном в стёб и йумор. И пролог с первой главой даже пытаются развить этот намёк, но... Вот, скажем, начинаю я читать "Принеси мне голову прекрасного принца" Шекли/Желязны:
Эти бездельники опять увиливали от работы. А Аззи только-только выбрал наконец уютное местечко, в самый раз удаленное и от огнедышащей дыры в центре преисподней, и от окружавших ее убеленных инеем железных стен.
Температура стен была не намного выше абсолютного нуля — ведь их охлаждал личный кондиционер самого дьявола. В центре же преисподней было так горячо, что атомы теряли свои электроны, а происходившие время от времени вспышки могли расплавить даже протон.
Нельзя сказать, что преисподняя позарез нуждалась в таком холоде и такой жаре. Тот, кто ее создавал, явно перестраховался, точнее, перестарался. Человек, даже мертвый и брошенный в преисподнюю, выдерживает — лишь очень узкий (в космическом масштабе) температурный диапазон. За пределами этой комфортной зоны он быстро теряет способность отличать плохое от очень плохого. Да и то, какая необходимость поджаривать беднягу при чудовищной температуре, если он чувствует себя одинаково и при пятистах, и при миллионе градусов?
Такие крайности только добавляли забот и мучений демонам и другим сверхъестественным созданиям, обслуживавшим грешников. У сверхъестественных созданий диапазон ощущений намного шире, чем у человека; большей частью это причиняет им одни неудобства, хотя иногда они испытывают истинное блаженство. Впрочем, в преисподней не принято говорить о блаженстве.
Или, вот, "Там, где нас нет" Успенского:
Вороны в тот день летели по небу не простые, а красные.
Примета была самая дурная, да что с того: давненько уж не бывало в Многоборье добрых знамений. Если у кого в печи убегала из горшка каша, то непременно в сторону устья, к убытку; кошки даже в жару спали, спрятав голову под живот, – к морозам; вышедший ночью во двор по нужде обязательно видел молодой месяц с левой стороны. У многих чесалась левая же ладонь, предвещая новые налоги. Мыши в домах до того обнаглели, что садились за стол вместе с хозяевами и нетерпеливо стучали ложками. Повадился ходить со двора во двор крепкий таракан Атлантий – он безжалостно пенял людям, что не сметают крошек на пол, и возразить ему было нечего. В разгар зимы корова родила теленка, доподлинно похожего на бондаря Глузда. Бондаря, конечно, проучили до смерти так не делать, да что толку бить по хвостам?
Время от времени выходили из боров недобитые отшельники-неклюды, приговаривали так: вот, не слушались нас, то ли еще будет, захотели себе начальной власти, терпите нынче и не вякайте.
И не вякали: сами виноваты, крикнув себе князя.
Князь Жупел родился не от благородных пращуров, а вышел непосредственно из грязи. Дело было летом, как раз напротив постоялого двора старого Быни. Там посреди дороги вечно держалась лужа – ни у кого не доходили руки завалить ее песком и щебнем. И в некоторый день что-то в луже оживилось, забулькало, а потом начало и пошевеливаться. На беду, в эти дни по дороге никто не промчался на коне сломя голову. «Шевелюга обыкновенная», – решил старый Быня, и нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь, так он еще лужу-то огородил веревкой и привязал к ней красные лоскутки.
И вот открываю "Сказания об Эйнаре" Дюка:
Старый Снорри застенчиво перемялся с ноги на ногу, пошаркал, потеребил шерстяную шапку, втянул лысую голову в плечи и опустил взгляд. Сырая земля голого поля показалась ему мало того что крайне интересной, так еще и наименее опасной, поэтому непоколебимую решимость во взгляде он обрушил именно на нее. Все возглавляемое Снорри боеспособное население Рыбачьей Отмели (с десяток мужиков и Ари, шестилетний внук Снорри, которому не успели дать подзатыльник и отправить к матери) напряженно затихло в ожидании развития дальнейших событий.
- Чего сказал, повтори!
Снорри вздрогнул, едва не выронив шапку, осмелился поднять глаза, испугавшись обязательно следующих за подобной фразой затрещины, пинка или тычка. Он подслеповато сощурился и часто заморгал от рези в глазах и проступивших слез. Не то чтобы он готовился разрыдаться от собственной смелости, но находиться вблизи Скарва Черноногого само по себе было героическим подвигом, достойным Медового Зала Отца Войны.
На Снорри снизу вверх злобно таращилось кабанье рыло. Сверху вниз таращилось еще одно, не менее злобно. Причем оба рыла действительно принадлежали представителям свиного рода-племени без каких-либо метафор и иносказаний. Но если нижнее принадлежало вполне обычному, только громадному хряку, то верхнее рыло обладало меньшими размерами и было снабжено человекообразным телом в кольчуге довольно плачевного, запущенного состояния. Голову покрывал устрашающего вида и размеров рогатый шлем, в котором уместились бы две головы его владельца.
Снорри глубоко вздохнул, успев поразмыслить о том, что жизнь его была, в принципе, довольно долгой и не такой уж плохой, а умирать своей смертью на Симскаре считается дурным тоном. Так что, в общем-то, терять ему особо нечего.
Первые трое авторов не делают вид, что хохмят и стебутся: точные, выверенные фразы, несущие максимум информации, как хороший анекдот или шутка. Успенский при этом умудряется лакировать "под старину" вполне узнаваемую окружающую действительность - сквозь славянско-фентезийные кружева проглядывают вполне узнаваемые контуры. При чтении же третьего начала у меня возникло стойкое ощущение, что мне пытаются рассказать анекдот, но делают это не очень умело и уверенно, а потому наплетают лишних подробностей, чтобы слушатель (ну или читатель) совершенно точно понял, где и в чём тут хохма. И так весь текст. Мне усиленно рассказывают - кто куда посмотрел, что подумал, как упал или пошёл и местами делают это совершенно не к месту. И магия стеба, в немалой степени основанная на узнавании, воображении и предсказании, рушиться. Я не Шоу Бенни Хила смотрю, и не мультики про богатырей, что "Мельница" наклепала уже в достатке. Я книжку читаю.
Кстати, о "Мельнице" и её чудо-богатырях и чудо-конях, на которые недвусмысленно намекает богатырский конь из "Сказаний". Не, ну правда - в "Сказаниях" коняка разве что говорить не умеет, а так - equus sapiens vulgaris, любимый персонаж Диснея, Мельницы и Пиксара. Может быть лет двадцать пять назад его появление в тексте было бы свежо и интересно. Сейчас же от такого коня ждёшь хохм забористее, чем нам уже показали раз надцать. Но нет, по крайней мере в первой части сказаний ничего такого нет. Equus sapiens vulgaris, как и было сказано. Вообще, всё это настраивание на стебный лад, отсылочки и смехуечечки, которые не тащат - они скорее мешают тексту, чем помогают ему. Начиная со второй главы, где начинается эпик, а персонажи становятся серьёзнее, и читать становится интереснее. Если бы не несколько "но" .
Первое "но": хорошо бы знать меру. Вот, скажем, сцена в кузне. Она раза в два длиннее, чем могла бы быть. Ну один присутствующий вспомнил, кем была мать Героя, ну другой - ок. Ну поделились друг с другом, что о Герое думают. Но не Тарантино, чай, чтобы придумывать малосодержательные диалоги, и чтобы это ещё увлекательно смотрелось/читалось. А так - сидят мужики в кузне, лясы чешут, вроде читателю рассказывают, кто такой Эйнар, мифы-легенды-фенетезийные сюжеты переиначивают, а не интересно. Пойду лучше сцену в кабаке из "Бешеных псов" пересмотрю, где герои о Мадонне треплются. Тоже, вроде, ни о чём, но, чёрт возьми, интересно! Потому что каждый из них - персонаж истории, а не болванчик, которому здесь и сейчас надо лясы перед читателем поточить и сообщить ему массу полезной информации (тм).
Или эта шходка штарейшин с шамкающим Шероем. Пару реплик в таком штиле шишать ешо иншерешно. Но когда шак пишетша нешколько штраниш - шошдаетша впешатление што автор ишдеваетша над шитателем. И, шнова, вопрош: в шем шмышл? По шюжету Эйнар в эшой шеревне проеждом-проходом. Его ваще сюда жаташили, тобы он колдуна убил. И нам в крашках рашшкаживают, как его мешный, шудом ошиавшийщя жить Герой ненавидит. И? На эшом вшё жаканшивается, на финальную шхватку не влияет и ваще. А ишковерканная решь утомляет хде-то на третьей реплике. Это элементарно шложно читать.
Второе но: логика повествования. Не событий, а самого рассказа. Вот, скажем:
Он с опозданием замахал огромными руками в попытках закрыться от серого, слишком яркого для мутных похмельных глаз света. Говорят, есть один крайне противный и злобный волк по имени Радсель, у которого в жизни только одна цель – проглотить Солнце (впрочем, симскарцы относились к нему с сочувствием в силу природных особенностей своей родины: бедная животина околела бы тут с голоду – настолько редко солнце заглядывало на Симскару). Говорят, боги регулярно гоняют гнусного волчару от корней Древа Хаттфъяля. Если хоть раз им это не удастся… ну, всех ждут довольно веселые, богатые на события, но последние дни. И это была действительно трудная задача для Отцов и Матерей, поскольку Друкнадюр, Отец разгула, пьянства и застолий, был хоть не самым почитаемым богом, но имел внушительную вольную или невольную паству. И каждое утро по всему миру тысячи обладателей свинцовой головы и прескверного настроения искренне желали, чтобы именно сегодня Радсель наконец-то перехитрил богов и добился того, что ему так хочется. Ну а что? Чего мне одному-то плохо? Пусть все помучаются.
Конкретно этот приверженец Друкнадюра, впрочем, если и желал нечто подобное, то быстро запрещал себе это делать. Даже и особенно в состоянии тяжкого похмелья.
У нас Герой, который пытается встать на ноги и открыть глаза, мучимый жестоким похмельем. Говоря киношным языком - гэг (нас ещё во введении автор пытался настроить на стёбный лад). Читатели, чаще всего, испытывали на себе муки похмелья и знают, что там и к чему. Автор, вместо того, чтобы рисовать всё точно рассчитанными мазками, пускается в простанные мифологические метафоры и уточнения уточнений. Зачем? Мне, читателю, это поможет лучше понять хохму? Оценить гэг с тем, что герой вот ваще никакой с чугунной головой ничего не соображает? Или ещё чего-то? А динамика сцены-гэга и логика повествования рвётся этим пространным отступлением. И такое - не в единственном экземпляре. Ради чего? Чтобы потом кто-то на уроках литературы писал сочинения на тему а-ля "Небо над Аустерлицом как составляющая часть образа князя Болконского" только про Эйнара? Хм... Возможно.
Третье "но". Слова-анахронизмы. С одной стороны, сложно сказать, в каком месте и времени происходит действие. Обильно разбросанные толстые и тонкие намёки говорят о том, что достаточно далеко от нашего времени и нашего места. Хорошо проработанный мир, топонимика, боги и их имена. И то тут, то там - вкрапления откровенного канцелярита или чего-то явно современного. Зачем? Где-то даются объяснения в стиле слома четвёртой стены:
Оно восстало, как потревоженный драуг из могилы. Как мумия из саркофага, спрятанного в закутке одной из пирамид посреди пустыни (над назначением которых когда-нибудь станут биться величайшие умы и строить самые безумные теории; хотя ответ разочаровывающе прост: глядите, я настолько был шикарен, что даже моя гробница шикарнее вашей коробочки, за которую вы продались в рабство на ближайшие двадцать лет). Только что оно пряталось в недрах стога – и вот оно уже сидит, только вместо погребального савана или километра бинтов оно было покрыто соломой, которая быстро сдавалась под властью гравитации и являла миру чудовищно опухшую, болезненно-бледную заспанную физиономию, обрамленную густой рыжей бородой и длинными спутавшимися волосами. Физиономия была посажена на толстую, короткую шею, переходящую в широченные плечи, которые оканчивались бревновидными ручищами с ладонями, словно созданными, чтобы давить детские головы, как перезрелые тыквы.
Мальчишка, испугавшись внезапно проснувшегося литературного дара и подобравшихся сравнений
Где-то и этого нет. Если обратиться к тому же Шекли с его "Принцем" - там с первых строк никакой архаики читателю не обещают. Есть мир нечести, в котором живёт Аззи, и он достаточно современен. Есть мир, где живёт принц, и он - не современен. В "Там, где нас нет" Успенского - автор не ленится, и стилизует под славянскую старину всё, и это создаёт дополнительный эффект узнавания. Где-то слабее, где-то - сильнее, но это работает в плюс тексту. И, главное, не ломает атмосферу. Никакой гравитации, никакой психологии и прочего, чего совсем не ждёшь от тех героев, которые представлены в "Сказаниях". Поэтому снова возникает вопрос: "Зачем? Ради чего?" Что именно такая лексика привносит текст кроме всё того же разрыва ткани повествования? Не нашёл я ответа.
Сюжет. С одной стороны, вроде бы всё, как завещали нам праотцы трагедии. Единство места действия и времени да ещё и смерть в конце. И не только в конце, а ещё и в виде героев, да ещё и в двух экземпляров. С другой. Снова логика повествования. "Сказание" - законченное произведение на восемь алок в статусе закончено. При этом если попытаться сложить то, что рассказывается читателю во введении/первой главе и в последней главе - паззл не сходится, и его кусочки не попадают в нужные пазы. Тупо по форме не подходят. Дочитав до конца читателю становится известно, что окрестные деревни под данью держит отнюдь не хряк-Скарв, а бессмертный некромант, или кто он там. А хряк - лишь его правая рука. И левая заодно. И Хряку это известно, и Снорри. И про героев, которых было уже не счесть. При этом диалог их строится так, будто Хряк - и есть главный злодей в истории. И ведёт себя Хряк-Скарв так, что он и есть тут главный злодей (о чём автор старательно сообщает). Он не угрожает расправой со стороны некроманта-Биркира не угрожает. И селяне-деревенщены ведут себя так, будто наехали на них максимум третий-четвёртый раз, а не дцатый, как выясняется позже. Тут даже сакраментальное: "Шо, опять?" от Скарва было бы более логичным, чем то, что он говорит. Да и страх и ужас в Рыбачьей Отмели тут выглядит не совсем натурально. Когда тебя бьют в дцатый раз подряд да ещё и в то же самое место - тут, как бы, уже не страх, а обречённость. Вот вспомним, скажем, селян из "Семи Самураев" "Великолепной Семёрки". Сюжет то, в сущности, тот же, только время чуть более растянуто. Так вот, селяне там решаются пригласить героев (в смысле, ковбоев-защитников) от безысходности. Им даже заплатить нечем - всё бандиты унесли. И тивст с предательством, когда старейшина решает, что старое зло лучше нового, в целом понятен. Как и последующий уход и возвращение ковбоев. Они - Герои и не могут позволить, чтобы в мире оставалась несправедливость. В "Сказаниях" (ещё раз замечу - расклад, в сущности, тот же, что и у классиков) телодвижения селян не совсем ясны. Скорее даже совсем не ясны. Они, конечно, объясняются автором. Что, де, и птичку (ну, то есть, героя) жалко, умрёт малый зазря и всё такое. Но в целом ведут себя как абсолютные статисты - от них ничего не зависит. И Эйнар тоже. Говорит: "Спокуха, отец, не дрейфь, разберёмся с вашим злодеем" - и идёт медитировать. Ну то есть со Смертью общаться, которая недвусмысленно ему намекает, что, де, не случайно он тут и надобно, значит, злодея загубить и в преисподнюю отправить. И по всему выходит, значит, что Герой, Эйнар то есть, пассивен как герой. Невесть как притащился в эту дыру, его растолкали на первый бой. Потом, значит, поставили перед фактом, что биться придётся ещё раз и более серьёзно. Он бьётся (а что ещё делать?) и уходит. И всё. Вроде бы, как бы, проблемы селян решает. Но, как говориться, Аннушка незадолго до этого уже разлила масло и кому-то надо напомнить, что человек внезапно смертен. Я не говорю про развитие героя - это не про данный случай. Но спрашиваю: а на чём, собственно, держится сюжет этого "Сказания"? Если учесть, что конфликт (который между Биркиром и Смертью) - он вынесен за рамки повествования и просто проговаривается. Но и таки да. Ещё один вопрос, который хочется задать: автор, ты воткнул ради хохмы отсылку к дону Карлеоне, "Хоббиту", "Властелину Колец" и кучу других вещей, но не воткнул очевидный референс на "Великолепную Семёрку" - ты это серьёзно?
Итого: где сюжет? Где некартонные герои, которые двигают вперёд повествование и о которых сам автор так любит читать? Где логичное изложение материала? Где идеи? Где здоровый стёб и юмор, на который так богато насыпано намёков? Хм. Да, есть проработанный мир. Да, есть отсылки. Но достаточно ли всего лишь этого?
Ладно, время позднее, бокал сухого красного допит, пора оценки ставить.
1. Логичность изложения, организация/внятность текста, достоверность событий в соответствии с обоснованием для реализма и/или фантастическим допущением (фандопа) для фантастики — 4. На мой взгляд и вкус, над логикой как сюжета, так и собственно повествования, тут надо работать: выстраивать, чистить, сшивать концы. Пока создаётся ощущение, что автор начал толком не зная, чем закончит.
2. Сюжет — развитие, гладкость, понятность, реалистичность, интересность — 3. Как такового его тут нет. Есть описания нескольких дней из жизни Обломова Эйнара.
3. Тема, конфликт произведения — насколько убедительно показано — 6. Если считать темой максиму, что каждый смертный рано или поздно умрёт (которая несколько раз явно проговаривается), то раскрыта она хорошо. Но вот насколько эта тема связана с героем, о котором ведётся повествование - вопрос открытый и интересный.
4. Диалоги — информативность, живость, реальность — 4. Из всех диалогов мне понравились лишь те, которые с девушкой-Смертью. Остальные - либо жутко затянуты, либо чрезмерно пестрят атрибуцией. Автору непременно надо сообщить, кто как и что сказал. Ещё желательно со всеми речевыми особенностями персонажей.
5. Герои — верите им? Видите их? — 4. Понравилась только Смерть. Остальным (включая Эйнара) автор хоть и старался придать характер, но сделал их больше похожими на статистов. Кроме того, конкретно Эйнар претерпевает уж очень значительные изменения характера от начала к концу. Начинает как деревенский мордоворот, заканчивает почти как интеллектуал. Второе идёт ему больше (это правда), но тогда и сцену с похмельем надо подавать в другом ключе. Похмелуга - похмелугой, но не настолько же она на характер влияет.
6. Стиль и язык — насколько вам хорошо читается — 4. См. выше.
7. Впечатление от текста в целом — 3. Раз десять улыбнуло на восемь алок. Возможно, конечно, я не восприимчив к юмору вообще, но то, как собрался веселить меня автор, как-то не особо зашло.
А, да. Разумеется #этоместьиобида! 