Рецензия на повесть «Сорни-Най»
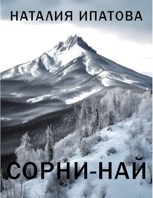
Бывают произведения хорошие, бывают плохие, а бывают к сердцу. Вот эта повесть со странным названием пришлась мне к сердцу. Для меня эта повесть сама оказалась Сорни-Най. «Оно не предмет. Сорни-Най это вот то, ради чего ты живешь и стараешься жить лучше. «Золотой огонь» по-вашему. То, что согревает душу, в чем вся красота мира, что день за днем продлевает с надеждой. Солнечный свет – вот Сорни-Най. Не идол это. Идол другой можно сделать». Так объясняет это понятие главный герой, так принимаю его и я.
В повести мы оказываемся на Урале, там, где Демидовы начали строить свои первые заводы в темные времена правления Анны Иоанновны, племянницы Петра 1 с ее реакционной политикой и попыткой вернуть Россию в допетровские времена боярщины. Правила она с 1730 по 1740 год.
Несмотря на то, что между коренными племенами Урала и русскими уже появились торговые и деловые отношения, и купцы, и служивые люди, и казенные, да словом, все относились к коренным жителям Урала как к мусору и, иногда, даже не считали их за людей. Хотя и вмешивались в их жизнь по надобности или по распоряжению свыше для расследования каких-то преступлений.
Сама идея повести состоит в том, что, когда русский «человек из рудокопного приказа» оказывается на грани гибели один на один с местным вогулом-охотником, он начинает смотреть на эту народность другими глазами. Оказывается, что вогулы тоже люди со своей древней культурой, со своими обычаями и, о чудо, они даже влюбляются, как обычные люди. Таким образом мы может описать идею повести, и заключается она в необходимости гуманного отношения человека к человеку. Мы знаем, с какой жестокостью Россия завоевывала новые земли, наверное, расчеловечивание коренных жителей и было главным условиям для воспитания солдат, чтобы они не испытывали мук совести, убивая людей и занимая их земли. Служили тогда двадцать пять лет, и за эти двадцать пять лет можно было окончательно очерстветь и потерять человеческий облик. Такое мировоззрение просачивалось и в другие слои населения, и утверждалось как единственно правильное. Поэтому главный персонаж делает для себя открытие – вогул оказывается не только человеком, но и способен на сочувствие, жалость, любовь и верность.
А вот с самим Егорием не все так ладно. Он привык к постоянной борьбе за выживание среди своих, которые постоянно пытаются его как-то ущемить или обмануть и в грош не ставят его труд. Он берется за самую неблагодарную работу, выискивает месторождения руды, но получает лишь копейки. Понятно, что при такой жизни ему не до окружающих красот и каких-то других развлечений. Он не отличает вогулов от хантов, и путает их всех с диким племенем самоедов. Все это напоминает и сегодняшние отношение русских к другим народам, которые для них называются просто «нерусские». И это большая проблема до сих пор. При этом вогул Ванхо знает о пришлецах все. И эта разница тоже создает резкий контраст.
Сам я, честно говоря, мало, что знаю о вогулах. Пришлось гуглить, выяснять многое, зато и обарахлился новыми знаниями. И это правильно, литература должна нести то, чего многие не могут знать. Чтение ведь не только удовольствие и легкое развлечение, а совсем наоборот, если автору сказать нечего, то и пишет он плохо. В этой же повести, в маленьком объеме сосредоточено множество интересных фактов. И вовсе не разрозненных. Факты сплетаются и создают общую канву, сотканную из исторических отступлений, легенд, мифов и человеческой психологии.
Сюжет линеен и кажется простым - два человека идут в снегу по горе Мертвых к ее вершине (такие горы, кстати, существуют у многих народов по всему Земному шару) и ищут других пропавших людей. И в общем-то почти ничего не происходит, но сюжет держит в напряжении до самого конца. Достигается такой эффект за счет большого количества аллегорий и легенд, вложенных автором в уста вогула. Его речь многообразна и кажется даже сказочной, но чувствуется, что он крепко стоит ногами на земле и иногда словно бы посмеивается над тем, что рассказывает, словно бы не верит сам до конца в то, что говорит. И поэтому, его рассказы выглядят убедительными. Читатель нисколько не сомневается в правдивости всего того, что говорит вогул. Егорий же, наоборот, являясь человеком более высокой цивилизации, ведет себя как ребенок, который повстречал взрослого и теперь пытает его вопросами. Хотя он сам намного старше своего спутника.
Есть и еще одно противопоставление – из-за пренебрежения друг к другу гибнет весь маленький отряд, а оба героя выживают. И только потому, что Ванхо уверен в том, что завершит начатое. Он подстегивает себя и своего спутника, заражает его энергией и помогает на этом пути. И все это при том, что Егорий готов уже смириться и его посещают крамольные мысли: «Думал, сколько раз проходил, должно быть, мимо останков, заботливо укрытых порослью да прелью, очищенных от плоти лесным зверьем так тщательно, что и запах никакой не выдаст. Немалый шанс был, что и сам он похоже кончит. Он бы и не против, но сейчас ему не хотелось умереть вот так, в смертном страхе, не поняв даже, что тебе отпущены последние мгновения. Ему хотелось подготовиться, посмотреть на небо, скажем, и еще бы неплохо, чтобы рядом кто-то был». Основная мысль – «он бы и не против». Что это, покорность, неуверенность в себе, фатализм? Или же разочарование в жизни?
Есть и еще один образ, милый моему сердцу – собака Тишина. Ее зовут так, потому что она не лает, а не лает она потому, что наполовину волк. Тут все ясно, но есть один абзац, который вчера на усталую голову я прочитал немного не так, как он был задуман на самом деле. «Ванхо был так счастлив, что посадил сытую собаку в нарту поверх медведя, а сам бежал сбоку и иногда кричал небу и звездам, чтобы те дивились на его молодечество, и Тишина глядела на него укоризненно, словно он потерял разум». Тишина, конечно же – собака. Но мне вдруг показалось, что автор пишет о настоящей тишине, о той, что окружает охотника в дикой природе, где нет болтливых людей. И, когда я понял свою ошибку – было уже поздно. Образ собаки обрел в мой голове иносказательный смысл. Собака стала символом и так пробыла символом до самого конца. Все-таки прав Ванхо, говоря: «Кому попало имя говорите, будто вашей души в имени нет, или вы ее не бережете совсем. У нас взрослый человек имя свое бережет. Если кого зовут как-то, так в роду, пока он живой, никого другого так не назовут. Плохая примета». Наверное, плохая – узнал имя, тут же его ассоциировал с чем-то, и другую судьбу к человеку привязал. Но это, конечно, мои тайные мысли. Я ведь тоже свое имя мало кому говорю, чтобы не превратиться в чьей-то голове в символ, как эта собака. Для меня главное, что автор оставил ее в живых и никаких бед не накликал на ее собачью голову.
Еще я думаю, что немалую роль в создании этого живописного полотна сыграл язык. Язык в повести индивидуальный авторский – узнаваемый. Фразы поются, как и должно в хорошей литературе. Предложения сложные, но такие равновесные, что можно просто любоваться языком и даже не следить за сюжетом. Уж и не припомню, когда мне приходилось в последний читать такой стильный текст. На уровне структуры всего произведения видно то же самое равновесие. Ни одной затянутой или скомканной сцены. Все выстроено идеально, и сюжетно, и логически.
Обычно я ругаю диалоги в исторических произведениях за, так называемый, псевдонародный язык, который является порождением нашего времени. И по своей вредности я пытался обнаружить и здесь что-то подобное. Но нет, нет этого. Персонажи разговаривают нормально. Возможно, их тексты звучат немного просто, но откуда нам знать, какой говор в действительности был в те времена. Кое-какие уральские словечки на слуху, но не вижу необходимости перегружать речь персонажей еще и диалектом. Тем более, что речь их выстроена правильно с точки зрения лексики восемнадцатого века. То есть, я поверил, что вот так они могли бы и говорить.
В какую-то минуту я побоялся говорить о своих ассоциациях, мне почему-то показалось, что не стоит сбивать читателя и давать ему путеводную нить. Да, в повести есть перекличка и с историей экспедиции Дятлова, и со сказами Бажова, хотя он сам опирался на все те же мифы и легенды, а поэтому первенство, все равно, не за ним. А любые основы нужно, все-таки, тащить из самой глубины, из того самого теплого гнезда, где они родились.
Вогулов относят к унгро-финским народам, что всегда оставалось для меня загадкой. Сейчас я говорю не только о вогулах, про них я узнал только что из этой повести. Меня удивляло, что унгро-финны - чуваши, тем не менее, говорят на разновидности тюркского диалекта. Но чуваши часто очень светлые, совершенно европейского вида, а вогулы оказались больше похожими на другие северные народы и, в конечном итоге, на индейцев. И даже обычай срезать у побежденного врага часть скальпа с волосами – тоже индейский. Вот так странно перемешались на этой территории народы и народности, сохраняя при этом индивидуальные черты и собственную культуру, о которых хотелось бы узнать больше.
Подведем итог. В детстве у меня был любимый чукотский писатель – Юрий Рытхэу. В его книгах тоже затейливо переплетались современность и мифы. И современность у него была, все равно, какая-то не такая, не нашенская. По тексту было видно, что даже взгляд на знакомую для нас жизнь – у него иной. Вот это самое иное я и вижу в повести «Сорни-Най». Словно бы написана она самим представителем племени манси. Возможно, это моя фантазия, но я так почувствовал. Хотелось бы, чтобы автор продолжил свои поиски новой формы в литературе. Я знаю, что писательство неблагодарное занятие, что сложные вещи занимают массу времени и сил, да еще и требуют постоянной учебы, а прочитываются быстро. Это как обед на всю семью, готовит один человек несколько часов, а съедают за пять минут. Но, все-таки, нельзя следовать примеру многих и лепить все, что только в голову заходит, называя это фэнтези, легкой литературой и прочими глупыми словами.
Вот здесь в этом тексте я вижу самое необходимое сочетание писательских качеств – талант и труд.
