Рецензия на роман «Рядовой Ронгольфаро»
Книга появилась в моей ленте ровно тогда, когда я лихорадочно шарудел нейрончиками в поисках дополнительного сырья для собственной точки опоры, или даже — сборки.
Темы вижу такие:
— Реальность и мифовое мышление
— Конфликты между личными правдами
— Проблема вытеснения и уничтожения вместо интеграции
— Вопрос, куда же девать зло или его неудобные останки
— Историческая память — на уровне как мировой, так и личной истории. (глава о мертвеце особенно)
— Надуманные картины мира как мотиватор реальных преобразований (с неочевидными, но паршивыми последствиями).
История малых людей и больших маняфанта легенд. История о фактическом и мнимом (том, что люди мнят о себе и других).
Политические отсылки оценивать не буду, потому что суть-то, похоже, совершенно не в них. С самого начала я увидел, что автор пытается найти точки соприкосновения между двумя краями одной кровавой пропасти, но какой? Может быть, он просто взял фразу «Никто не забыт, ничто не забыто» и стал плясать от неё?.. Поначалу я думал, что речь идёт о конкретном новоисторическом потоке событий. Я сейчас отношусь к подобным пробросам мостиков настороженно, но всё же считаю такие попытки увожаемыми. Проще говоря: хоть что-то, блин, новое сказано!
А потом я дочитал до места, после которого могу сказать, что книга на другую, более вечную и более интересную для меня тему. Оч рад, что кто-то написал об этом за меня и мне теперь можно своими неловкими лапками писать чот другое :В
Сюжет
Есть великая и финальная борьба Героев со злом человеческим, после которой — Забвение зла и возведение Нового мира.
Две полярности. В сказках итоги такой борьбы, а также точка приложения сочувствия — очевидны. В реальности борьба проносится над головами великого множества людей.
Сюжет разворачивается вокруг небольшой группы таких людей — порождений Старого мира, которых стычка сил по разным причинам выписывает из людей в утиль.
По разным причинам они оказываются способны сказать своё слово (или своё пронзительное «ААА!»). Так не бывает в мифе, так не бывает в сказке — и то, что казалось прекрасным на бумаге и в нарративе, вдруг идёт совершенно другим сюжетом.
Мне эта книжка наложилась на такую собственную мысль: когда человек выражает об других людей свои домыслы о себе и реальности, из этого получится хрень. Рано или поздно — получится. Даже если эпатировать добротой и помощью. Ведь и крошке Цахесу «помогли», а что вышло?
В книге то же происходит.
Неважно, ты Император и у тебя кайфует нейродорожка паранойи, когда солдатов без носков кидают за тебя в мясорубку; или Рыцарь с серебряной тональностью духа и красивым образом светлого будущего. (Если прям очень округлять — то Рыцарь кмк искал кнопку «сделать хорошо», и нашёл её у Золотой богини.) Они оба не задумались, что же нужно для достижения их целей в реальности, а не по их личному мифу.
Они также не особо-то спрашивали окружающих, что нужно им, спасаемым (или подвергаемым мясорубке).
Полярность добра точно так же не умеет слушать, как армия Императора. Девятка героев не спасать пришла на поле боя, а выпендр… самовыражаться: кого как научили бамбуковыми палками и стёклами реторт.
Особенно видно на Беттине, у которой каждый фаербол швыряет её личная трагедия. Имхо именно поэтому у неё (по словам Ниндзя) сносит крышу совсем, тогда как другие герои куда тише в своих сомнениях.
Но у всех супергероев накапливаются сначала сомнения, потом внутренний конфликт.
Потому что их совесть и честность паникуют, почуяв зависание над пропастью. Да, у всей Девятки разрыв между фактическим и воображаемым, между заявленной целью и её реализацией. Нутро каждого из них чувствует фатальную опасность, ведь они…
…Теряют человечность, в попытке вывести нового беззлобного человека они теряют человечность!
Лет 20 назад зожные хиппари вещали так: «надо избавляться от стресса, надо быть в покое, всегда…» — а стресс-то запускает иммунитет и метаболизм, а стресс-то нужен, пока лежит в срединной градации и не заходит в крайность.
Тематика забвения исторической памяти - только одна из возможных трактовок. Частный случай. Не менее важно по сюжету невытеснение собственного прошлого во всей его паршивой красе - вытеснение же приводит к тому, что супергеройская Девятка успешно запихивается в формочку архетипа и так же успешно ведёт человечество к сладкой мирной
катастрофе?
Нельзя ничего вытеснить, нельзя обмануть реальность, увиденное не развидеть. Можно только найти точки опоры и точки соприкосновения, и вот уже на них строить что-то новое.
Главный герой
Я вижу героя, который идёт своим путём в полном смысле слова. Таким образом, он неизбежно оказывается посередине. Меж молотом и наковальей, меж двух огней, над той самой вышеупомянутой пропастью — вот куда заводит личная честность.
«И свои, и чужие пытаются меня убить, почему я вообще должен помогать им это сделать?»
Рыцарь пятиэтажек, сам немного писатель. Если бы не взял меч (на самом деле не меч, но это спойлер) — наверняка сидел бы в /izd/. Его точка опоры маргинальна, но она есть.
И у других персонажей точка опоры есть. (Однако у Героев она…очень специфическая, а у одного заключается в том, что её нет)
У всех есть. У каждого своя правда, очень выстраданная и правильная.
«Помоги нам, и мы начнём новую эру, век света и серебра», как я люблю серебро в этом контексте, автор, каким я себя чувствую обстёбаным и как мне это нравится, потому что прекрасно быть обстёбаным за дело — следовательно, ради дела!
Ронгольфаро берёт свою исходную несколько асоциальную точку опоры и пляшет от неё, а не от чьей-то идеологически выверенной и социально одобренной точки. Он становится героем не по предназначению, а по способу самореализации. Он не подчиняется ни одному стереотипному нарративу и не примеряет на себя символизм. Грубо говоря, его интересует реальная жизнь перед собой и способы эту жизнь сохранить.
Себе?
Не совсем. Скорее вообще сохранить образ жизни человеческий, на концептуальном уровне.
И ничего в процессе не потерять.
А то, знаете ли, слева нарратив один, справа — другой, а человек, пытающийся остаться реальным, оказывается нигде там не нужен. Он не вписался в движ, он не выкупил тему, он не надел подходящего архетипа, не ударился в крайности, он вообще ни во что не ударился, а просто делал свои выборы. Моральный закон внутри него, что-то такое.
Дело в том, что Ронгольфаро противостоит огромным и противоестественным силам. Заявлены они как силы добра — по крайней мере, соответствуют добрым архетипам.
Ронгольфаро обнаруживает, что само противостояние тоже порождает некую пропасть. Может быть, это разрыв между идеализированным и физическим. Книга так построена, что высвечивает сам факт этого разрыва постоянно, и читатель вместе с героем пытается его преодолеть.
Трусы с бегемотиками, бросок последнего ржавого копья — я точно уверен, что автор погладил именно эту тему в числе прочих.
Тему противостояния между реальной свободой воли и надуманной повестью о том, как должно вести себя герою.
Форма.
«Итак, лицо Ронгольфаро, внутренний пейзаж его ума.»
Первые ассоциации — сказки Шварца (этого), рыцарский роман (а может, плутовской?). Это не значит, что «Ронгольфаро» — калька со Шварца или упаковывается в средневековый жанр.
Камера отведена высоко вверх, но не отстранена. Авторская речь не стесняется показывать весь контекст, четвёртая стена отсутствует, так как автор говорит с нами напрямую — но при этом герои дышат совсем рядом.
Знаете, как это называется? Честность. Говорят, где-то в искусстве сейчас зародилась «новая искренность» — ну так это она. Автор не урезает формой содержание, используя разные формы одновременно и бесшовно.
Пример раз. Цветной комментарий от автора с предложением дополнить историю. И эта вставка не разрушает ткань рассказывания, а дополняет её.
Пример два. Обещание автора показать контраст в самом конце истории. Действительно, зачем расставлять крючки и заигрывать с читателем намёками, если выбранная тональность позволяет говорить напрямую всё, вообще всё, включая авторский замысел, но при этом сохранять главную черту любой интересной книги — интригу?
Картина мира сдвоенная, как во сне. Местами, особенно в начале, случается плывучий сюрреализм, и он здесь не ради позы. Форма служит содержанию. Сюр объясняет то, что должно быть сказано, но не бьёт в лицо очевидностью — за болью от удара теряется смысл.
(Боже спасибо за сюр, за dreamscape, за магический реализм! Как бы мы без этого жили в реалиях, когда уже способны понимать весь ужас происходящего с людьми, но ещё не научились на это понимание реагировать?)
Сюр не разрушил реализма — видимо, за счёт высоко поставленной камеры, находящейся в позе «всезнающий автор» (примерно).
А может, это смесь худлита с эссе? А может, эссе и автописьма? А...
Другие персонажи
Интересно, насколько я ошибусь, если предположу Волимгдана — селфинсёртом автора, ну хоть частичным? Потому что это же надо знать самому и самому испытать: как по тебе стекает пламя вместе с кожей, а потом ты падаешь на колени и нет, не трагически возносишь руки, а плачешь аки первоклашка и канючишь тортик с пледиком. Это после подвига-то! И не стыдно? А был ли подвиг? А был. Вот так оно в жизни, хотя в сказках — не так. В отличие от выдуманных героев, Скульптор-то своё тело осознаёт...и жалеет, а вот это уже совсем реалистический реализм, это часть утраченной в реальных и воображаемых войнах человечности, это очень маленький и очень правильный момент.
О Нелле могу сказать, что если бы не было её — не было бы ничего. Причём не только по её личным качествам, но и по той сцене, с которой начинается её пребывание в сюжете.
Нумерле:
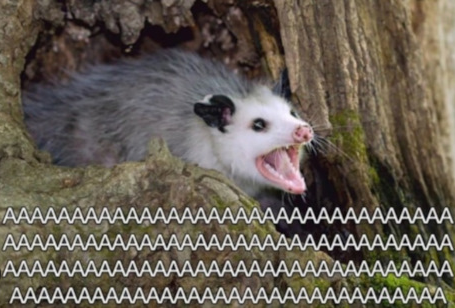
Когда-то Шклярского из «Пикника» спросили в связи с одной его песней: можно ли молиться азбукой Морзе? Шклярский ответил утвердительно.
Нумерле не стал идиотом — ему просто перестало хватать слов для описания происходящего внутри и снаружи. Я мог бы долго расписывать, почему так может быть. Не буду. Просто скажу, что «ААА» ничем не хуже азбуки Морзе в задаче выразить своё знание о земном — в небо.
Зачем персонажей так много? Чтобы автор мог оставаться максимально честным. Чтобы не делать срезов, не упрощать, не низводить до очередной притчи. Поэтому в финале те, кто были преступниками, ими остаются — но в той мере, в какой это сообразно их деяниям. А один самый честный персонаж доходит до своей позиции немножко-преступнка самостоятельно и тоже впрягается в общую тачку.
То есть в конечном итоге я прочитал повесть о заделке дыры — вынужденным, не экзальтированным самопожертвованием отдельно взятых индивидуумов, которые с существованием этой дыры не согласились. В повести это оказалось важнее их качеств, их исходных идеологических позиций, слабости, глупости.
Считается, что медиаторство — это переговоры и сладкие плюшки. В этой книге, мне кажется, уникальный пример медиаторства с позиции непревосходящей силы.
Не знаю, какая позиция у автора будет в дальнейших работах и куда его заведёт. Но сейчас он осмелился протанцевать ровнёхонько над пропастью, а я такому всегда аплодирую. Ведь если есть танцор — есть и нить под ним, проброшенная между крайностями, чтобы они не расползлись по полюсам окончательно.
Нам нужно говорить о новом мире прежде, чем его отстроят вокруг нас в формате очередной крайности.
Мы будем говорить.
