Воды Борисфена
Автор: Джиджи РацирахонанаОднако никто не может сказать, через области каких племен течет эта река дальше на север.
(Геродот)
Преамбула 1. Оговорка задним числом.
Эта рецензия написана примерно за три месяца до начала БЧБ беларусских событий, а опубликована - за считанные дни, можете себе представить, как я офигела, когда стало по реченному.
Преамбула 2. Реальный случай из жизни.
В Беларусь я вышла весенним утром в пять утра. Вокзальная площадь была уютна, чиста как операционная и абсолютно пуста. Мой научный руководитель (который и повлек пару аспиранток за собой на международную конференцию) озирался, вдруг взгляд его остекленел, и он пробормотал:
- Джиджи, ты тоже это видишь?
Я обернулась. У нас за спиной высился графитово-серый параллелепипед с парой пристроек той же формы и того же цвета. На параллелепипеде вроде бы нормальной кириллицей было написано что-то вроде “Огромадная чугунячина”*. Я сморгнула. Надпись осталась той же, только самоперевелась с беларусского.
- Это значит “гражданская железная дорога”, Марк Валерьевич, - сказала я.
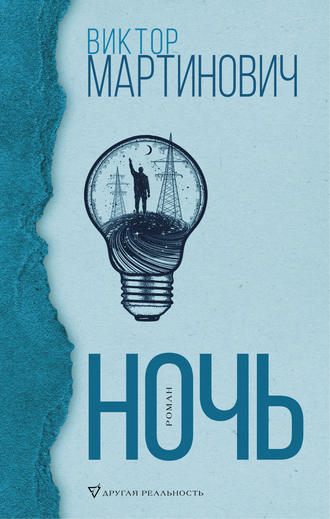
Одна из моделей становления личности гласит, что Я формируется через изучение особенностей ИХ. То есть, в некотором роде, через отрицание, через отъединение. ОНИ - таковы, и в этим их отличие от НАС. Вначале растущее Я способно отличать только значительные различия, затем все более тонкие и индивидуальные. Трехлетка способен ухватить разницу между детьми и котами; в пятнадцать уже приличествует уметь отличить среди одноклассников тех, играет в майнкрафт от тех, кто предпочитает энимал кроссинг. Каждая следующая итерация различения через оппозицию разграничивает все более точно Я и не-Я, пока, наконец, по методу Родена и Микеланджело, ** не будет отсечено всё чуждое.
Именно поэтому любопытно наблюдать, как фокус модного интереса среди читающих по-русски за годы моей читательской карьеры ползет и ползет все ближе к реальным границам страны и языка. Актуальный ДРУГОЙ в восьмидесятых был полковником Буэндиа, агентом Бондом и Одиноким Бизоном, который совершал свою ошибку. Вчерашний не-Я - это скандинавский детектив, действующий всего в паре снеговых туч от Санкт-Петербурга; восточноевропейский горе-предприниматель и казахский программист.
И вот, сегодня, мы читаем о беларусских библиотекарях и языковедах. Пропасть между нами - и ними - порой сужается до толщины волоса, но захватывает именно тем, что все еще существует, и глубина ее ничуть не уменьшилась с тех времен, когда в качестве “современной литературы” все читали Кастанеду и Рушди. Острота ощущения “а у нас_все_еще_ не так” окрашивает сюжет в дополнительные цвета, возможно, совершенно не запланированные авторами. Впрочем, роль Другого в чем-то почетна, ведь именно волшебное зеркало определяет, кто нынче в нашем царстве красавица.
Так что же покажет зеркальце в этот раз?
В Индии найдена рукопись, написанная кириллицей. Повествует она о том, что однажды, во время разговора по телефону двоих расставшихся влюбленных, время на планете Земля остановилось. В Беларуси всегда глухая ночь с первым заморозком. В Непале, где в тот момент находилась собеседница - самое начало рассвета. Отказали бензиновые двигатели, отказали электрические сети. Большинство людей погибли.
Поразмышляв несколько лет (сколько - сложно сказать - в некоторых местах прошли поколения, у него самого не успела состариться и умереть собака), герой решает добраться до любимой. Поскольку от цивилизации к этому моменту остались рожки да ножки, герой кладет в рюкзак любимого древнегреческого писателя, надевает на собаку ошейник и выдвигается пешком. Времени все равно нет. Смысл спешить? Важнее дойти.
Виктор Мартинович представляет нам роман с очень современной неоднослойной фабулой. Если не всматриваться, то его можно непринужденно читать как жутковатенькое роуд-муви по руинам погибшей цивилизации. Судя по отзывам на литературных площадках, немало читателей так и поступили и остались вполне довольны (или нет). Более вдумчивое чтение позволяет или пуститься в переложение греческих небылиц о Скифии на постапокалиптический лад и потешить в себе культуролога, или остановиться на пронзительной притче о любви, которая есть Путь, а идущему сама ложится тропа под ноги. А для человека, знакомого с реалиями Минска и окрестностей, это еще и ехидный обзор топографических единиц в черно-черном фильтре.
Путешествие Книжника одновременно и осуществлено, и оборвано. С одной стороны, книга после ряда коллизий в пределах полусотни километров заканчивается тем, что герой в лодке плывет по Свислочи, рассчитывая попасть в Березину, оттуда в Днепр, оттуда в Черное море а там уж как-нибудь… С другой стороны, с самой первой страницы мы знаем, что по крайней мере, до Индии путешественник добрался. Выбор конкретного, очень небольшого, отрезка путешествия из всего многообразия возможных чудес и дальних странствий говорит о том, что важен не только путь и путник; важна местность, по которой происходит путешествие.
В “Ночи” трудно не уловить сходства с “Островом Сахалин” Эдуарда Веркина, который тоже многослоен, тоже постапокалиптичен, тоже полон пронзительной нежности на некоторых из глубинных уровней, тоже вальсирует с литературным первоисточником и тоже чрезвычайно географичен в пейзажных подробностях.
Читательское внимание и эстетическое впечатление поддерживаются и Веркиным, и Мартиновичем на растяжке между возвышенной романтикой, библиофильским узнаванием и живописанием свинцовых мерзостей потерявшей человеческий облик родины.
И вот на сравнении “свинцовых мерзостей” вдруг и становится заметна пропасть между российским и беларусским. Постапокалипсис Мартиновича не то, чтобы беззуб, но он на удивление прозрачен и почти милосерден. Там, где герои Веркина идут словно сквозь пропитанный горящими нефтеотходами торфяник, Книжник и его собака движутся по лесной дороге промозглой октябрьской ночью. Света тоже мало, но дышится не в пример легче.
И дело тут совсем не в особенностях пейзажа, а в поведении встречных-поперечных. Возможно, виной тому моя собственная сибирская социализация, которая иногда оказывается излишне брутальной даже в городе-герое Москве, но буквально каждый сюжетный поворот меня обманывал. Ожидаешь людоедов - оказываются обычные дорожные разбойники. Ожидаешь хищных человекогрибов - оказывается выродившаяся от инбридинга деревенька, алчущая свежих генов от проезжих гостей. Ожидаешь, в конце концов, Люцифера, а является Шива в лике милосердия.
Этот эффект ночной прогулки, в которой фигуры издали кажутся значительно страшнее, чем вблизи, особенно ярок в главе, где герой раскрывает махинации, связанные с работающей радиовещательной станцией. По едва выживающим поселениям бродят ужасные слухи, в которых герой с дрожью опознает цитаты из Геродота. Мир вокруг и так вполне фантастичен - кто мешает поверить в то, что в вечной ночи кишат живьем древние страхи?...
Однако, в непосредственном контакте марево античного ужаса распадается на груду сохранной радиотехники и безответственного хипстера, который читает в эфир в качестве новостей случайно завалявшуюся книгу. Для героя все слухи о воплощении древних небылиц оборачиваются нелепым, почти постыдным приключением (думал победить дракона, а вышло - прогнал двоечника), а для нас - метафорой СМИ, как они есть: жители страны живут и умирают в информационном поле, заполненном болтовней бездельника, застрявшего в раннем пубертате. “А меня-то за что? А куда мне теперь идти?... А что мне делать?” - кричит горе-вещатель в спину Книжнику. Но дуэль текста и вещания окончена, Книжник молча уходит по своему пути, радиоточка замолкает. Будет ли это хорошо для жителей вечной ночи - неизвестно. Но пугало рассыпалось буквально от первого прикосновения.
И так раз за разом. Вместо полноценных кошмаров природного или иноприродного происхождения Книжник натыкается на обычные человеческие жадность, глупость или страх. Бандиты вместо оборотней, нувориши вместо вампиров. Вроде бы тоже опасно, но исчезает паника от непонимания “что же делать?” Все как обычно - от жуликов нужно отбрехаться, а от убийц - спрятаться, и нечего паниковать. Весь сюжет, ведущий героя по миру вечной глухой темени, как будто намекает - нет никаких ктулх в этой ночи. Единственное чудо, которое может с тобой случиться - чудо доброе. А зло обыденно и чрезвычайно банально. Самым мрачным чудовищем книги оказалась глубоко воцерковленная пожилая женщина, искренне верующая в свою правоту.
Такое трезвомыслие, отказ видеть в реальном зле могучие инфернальные силы неожиданно делает позицию героя - и вместе с тем, автора, очень сильной. Человеческое зло могущественно, но победимо. Нет в этой темноте ничего такого, перед чем стоит сдаться. Упорство оправдано.
Второе, что показалось мне настолько же неожиданным - это то, насколько высока оказалась в руинах Минских предместий вероятность получить от незнакомцев какую-то простую поддержку. Подвезти. Указать дорогу. Помочь похоронить друга. Дать горячей еды. Нет-нет, традиционной постапокалиптической озлобленности тоже хватает, но она удивительно, потрясающе не тотальна. Может быть - может быть - мы имеем дело с авторским доверием к землякам. А может быть, и вовсе с непроизвольно отразившимся в тексте национальным характером. Этот Другой не глупее, но как будто добрее и в чем-то наивнее меня. А может быть, зеркало показывает, что этот Другой достоин того, чтобы у него поучиться.
От чтения “Ночи” остается очень физиологическое ощущение свежести - как будто некоторое время стоишь в прокуренном, провонявшем сивушными маслами помещении, но выходишь и умываешься из бочки во дворе - а в бочке отражаются холодные звездочки. Вода реки несет Книжника, из-под воды светятся золотые искры, и у нас есть твердая надежда на то, что он доберется.
* “Грамадзянская чыгунка”
** “Я разумею под скульптурой то искусство, которое осуществляется в силу убавления”. Микеланджело Буонаротти, Письма
