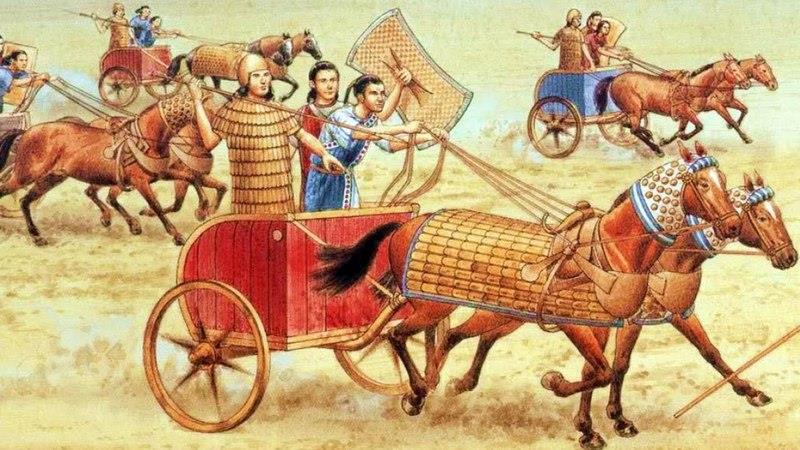"Легенды и мифы Древнего Востока" - анонс
Автор: Анна ОвчинниковаК несчастью или к счастью, не умею самопиариться. Поэтому перед началом выкладки "Легенд и мифов Древнего Востока" вместо анонса - предисловие к первому изданию. Его написал замечательный писатель и египтолог Иван Рак, с его разрешения помещаю здесь выдержки, все предисловие довольно длинное и такое хвалебное, что краснела, пока читала. :)
Фундаментальными знаниями об ушедших эпохах мы обязаны академической науке. Но знания складываются в культуру только тогда, когда они становятся частью нашей духовной памяти, и тут уже наука бессильна. Если обычный среднестатистический человек, никогда специально не интересовавшийся, скажем, историей Франции или Англии, вдруг задастся вопросом: а откуда ему, собственно, известно о кардинале Ришелье? о нравах гвардейцев и мушкетеров? о войне Алой и Белой розы, что такая была? — в 100 случаях из 100 ответ будет, что отнюдь не из школьного курса истории и не из научных фолиантов, а из романов Дюма и Стивенсона. Греческие мифы мы тоже знаем не по Овидию и не по работам эллинистов, а по книге Куна; войну 1812 года — по Толстому; чиновный мир николаевской России — по «Ревизору» и «Мертвым душам» Гоголя.
Поэтому на популяризаторах исторических знаний лежит гораздо большая ответственность за историческую правду, чем на академических исследователях. Если причислить к популяризаторам и писателей-прозаиков, то в особенности это касается их. …Главная трудность их ремесла: не погрешив против научной точности, сделать изложение занимательным, — а это неминуемо влечет за собой привнесение авторского вымысла и, следовательно, риск исказить историческую истину и сделать заведомую неправду убеждением тысяч.
…Трудности, которые приходится преодолевать добросовестному популяризатору, можно описывать на многих страницах, так что остановимся на сказанном. Каждый автор по-своему решает стоящие перед ним задачи, иногда прибегая к традиционным приемам, таким как стилизация повествования, иногда отваживаясь на небольшие новаторства, а иногда рушит все каноны и создает что-то совершенно новое. Последнее во многом относится к книге Анны Овчинниковой.
Неожидан уже сам замысел книги (точнее, трех книг, ибо под одной обложкой здесь собраны своды мифов Древнего Египта, Древнего Двуречья и Ассирии). Традиция отечественных популярных изданий по древним мифологиям, восходящая к дореволюционным переводам Штоля и Швабба, но по-настоящему начавшаяся с Н. А. Куна, за пол столетия выработала своего рода правило, как такая книга должна быть построена: мифы излагаются не в хронологической (по датировкам источников), а в смысловой последовательности (от сотворения мира до конца света), все «научное» сводится до минимума и выносится либо в предисловие, либо оформляется в виде отступлений и сносок. А. Овчинникова изначально ставит перед собой гораздо более трудную задачу: помимо пересказа мифов и всего, что так или иначе связано с религией, рассказать и о культуре Египта и Двуречья вообще, и об основных вехах их истории, и, наконец, обо всем том, что пришлось преодолеть ученым в поисках исторической истины, — и чтобы все это было не механическим соединением разножанровых материалов, но сливалось в «песню, из которой не выкинешь слова» и которая будет на пользу и в радость любому читателю: и уже подготовленному, и тому, кто знакомится с Египтом, Двуречьем и Ассирией впервые.
Надо думать, Овчинникова не первая, кто пытался объять необъятное одной книгой, — так ведь и Шампольон был не первым из пытавшихся прочесть египетские письмена, — но она первая, кто с этой задачей блестяще справился. Переходы от изложения мифов к рассказам о пионерах востоковедения, затем к переводам памятников письменности и обратно к мифам так удачно выполнены, что, наверное, они были бы и вовсе незаметны, если б не заголовки, отделяющие одно от другого. Взгляд автора — это не попытка подстроиться путем стилизации якобы под восприятие самих египтян и шумеров, и в то же время не высокомерный отстраненный взгляд на древние поверья из далекого будущего, — нет, это, скорее, попытка воссоздать наше с вами восприятие обеих великих цивилизаций, каким оно было бы, если б мы, с нашими знаниями и опытом, фантастическим образом переместились во времени и оказались в Древнем Востоке. В этом смысле книга Овчинниковой опровергает распространенное мнение, что перевод или пересказ текста, созданного народом с совершенно иной ментальностью, непременно должен восприниматься читателем именно как исторический памятник, «сквозь ореол древности», создавать ощущение временной дистанции, разделяющей две эпохи и два мировидения.
А. Овчинникова не прибегает к нарочитой стилизации текста «под архаику» еще и потому, что такие стилизации (к сожалению, столь привычные широкому читателю) искажают представление об описываемой эпохе больше, чем фактические ошибки. Речь идет о стилизациях под некую абстрактную «старину», под «старину вообще»: тяжеловесные фразы, обилие инверсий, придаточных предложений, крепящихся к главным союзами и местоимениями, почти что диковин ными на слух: «коему», «сие», «дабы»; и лексика тоже с «сединой»: «дщерь», «врачеватель», «хворый», «вести мо», «сказ» и т. п.; и обороты типа «пред его лик», — подобный несуетный раздумчивый слог очень красив, и избрание такой манеры письма дает очень хорошие результаты с точки зрения стилистического совершенства русского текста. На самом же деле это просто подмена древней эпохи расхожим представлением о ней: египетские, шумерские, вавилонские, ассирийские, да и древнерусские тоже, и вообще все древние тексты звучали совершенно иначе. Однако именно эта стилизация и западает в духовную память народа, а потом снова и снова воспроизводится в книгах и исторических кинофильмах. Стилизация же строго под оригинал всегда в ущерб красоте слога, всегда тяжеловесна, затрудняет чтение и рассчитана главным образом на подготовленных читателей. Овчинникова, как всякий талантливый автор, пошла своим путем: она излагает материал тем языком, каким его излагал бы наш с вами современник, побывавший среди египтян и в Двуречье: вместе с читателем она то полностью «вживается в образ», то отстраняется от него, вплоть до сознательного употребления слов, никак не вяжущихся с нашими представлениями о древности (типа «кандидатура», «политика» и т. п.).
Во всех случаях, со стилизацией или без нее, книга должна быть прежде всего произведением литературного искусства. А. Овчинникова такое произведение создала.
И не в одном только удачном новаторстве ее заслуга. Это даже не главное. Ее книга продолжает все лучшее, что было в этом жанре прежде. Пересказы мифов написаны так, как пишется художественная проза: характеры мифологических персонажей переданы не описательно, а образными средствами; динамично излагаются мифологические события; скупые обрывистые фразы богов в подлинниках разворачиваются в величественные монологи или превращаются в живой эмоциональный диалог, а подчас и просто в перебранку: что греха таить, языческие божества — это не отвлеченные теософские модели, свойственные позднейшему монотеизму, им в полной мере присуще все то, что присуще и людям, включая их, людей, недостатки, и оттого они, несмотря на даль времени, нам близки и понятны. Поэтому боги египтян и шумеров запоминаются читателем не как безликие абстракции, различающиеся только именами и наборами функций, а как живые литературные персонажи, к которым не остаться безучастным: одни вызывают симпатию, другие — неприязнь, третьи — восхищение. Столь же динамично написаны и исторические главы, и главы, где рассказывается о знаменитых первопроходцах востоковедения.
Популяризация академическая, то есть «перевод» с языка науки на доступный, всегда рассчитана на определенный возраст и уровень. Популяризация художественная — для всех возрастов. Книга Овчинниковой доставит удовольствие и взыскательному эстету, ревнителю стиля, и школьнику, читающему в основном по обязанности. Поэтому стоило бы порекомендовать книгу Анны Овчинниковой и в качестве учебного пособия по школьному курсу мировой художественной культуры: учебник вовсе не обязан быть нудным, он тоже вправе доставлять удовольствие. А то, что прочел с большим удовольствием, уже не забудешь.