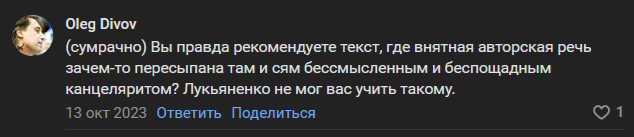Словогеноцид в литературе
Автор: Андрей СемизаровВоскресное любомудрие у нас будет о пчёлах против мёда, то есть об авторах, борющихся с текстом. Разумеется, в плане его чистоты и красоты. Правда, часто не со своим текстом, но да ладно. Перефразируя одного подзабытого политика, «книга — это не то место, где можно только языком». Барабанить по клавишам — не в шахматы играть. Тут необходимо включать мозг, контролирующий поток сознания. Да-да, знаю, что не всем это дано. Я же рассуждаю, поэтому медленно положите тапки на землю и отойдите на три метра.
Что же происходит дальше? После бурного буквоизвержения, когда ранее затвердевший писатель обмяк и опал, наступает не всем приятная фаза вычитки. Только что ты во всевозможных шрифтовых начертаниях вопросительного знака ласкал пальцами клавиатуру, а теперь нужно встать и пойти в душ получившееся причесать, иначе, позднее, может случиться внезапный Дивов или кто похуже.
С чем обычно героически сражаются писатели? Топ-3 борьбы включает:
• Канцелярит.
• «Былки».
• Повторы.
У некоторых (лично видел в комментариях к чужим книгам) вызывает панику даже большое количество похожих букв и слогов внутри одного предложения. Это случай оставим на рассмотрение профильным специалистам. Пройдёмся по озвученной тройке.
Если коснуться меня, то с канцеляритом я нахожусь в зоне повышенного риска, так как учился на юрфаке, что подразумевает отличное знание казённого языка и умение им пользоваться. Правда, в книгах я им почти не грешу. Специально перед написанием блога пробежался по своим романам. Он там есть, но в небольшом количестве. Даже выпалывать не хочет, хотя, возможно, и загеноцидю как-нибудь.
Случаи, когда применение канцелярита не накладывает проклятия на писателя и его потомков до седьмого колена, очевидны (очевидны же?):
• устная речь чиновника;
• приводимый в книге текст документа;
• создание определённой «ведомственной» атмосферы (в том числе, гротескной), включая повествование от первого лица, когда герой, например, юрист до мозга костей, отчего даже думает подобными конструкциями.
В остальных случаях канцелярит табуируется и нарекается «фублей». Особенно шипят от него редакторы, желающие видеть язык Белинскага и Чернышевскага, сдобренный щепоткой поздней Ахматовой и раннего Бальмонта. Ага, хрен там плавал! Дело в том, что языковым нормам свойственно меняться, как бы ни упирались филологи. Сетевое общение тому примером. То, что лет двадцать назад считалось дичью, сейчас стало обыденным. Поэтому человек, увидевший в тексте «в данный момент» или «альтернативный», не будет хвататься за сердце (если это не редактор). Скажу больше: читатель не обратит на такие слова внимания. Наличие в тексте канцелярита не делает его плохим. Плохим делает избыток казёнщины, не оправданной логикой повествования. Если канцелярит встречается редко, то нападки на него — желание докопаться до столба.
Отсюда промежуточный вывод: бороться можно, но и забить не возбраняется.
С «былкоборчеством» сложнее. С одной стороны, много «было» текст не красит. Ведь, по сути, это один из частных случаев повтора. С другой, очень часто невозможно обойтись без этого слова. Заместительные не всегда срабатывают, в некоторых случаях вызывают у редакторов сердечный приступ (слово «являлся» передаёт привет!), да и иное построение предложения может не исправить, а усугубить ситуацию.
Давайте обратимся к классике. Толстого кто только не пинал, поэтому возьмём Достоевского и Чехова.
«Преступление и наказание», второй и третий абзацы:
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.
Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его.
Я уж промолчу о повторах, от которых рябит в глазах. Может, Антон Павлович, чьё изложение всегда считалось наиболее гладким и которого я всегда любил читать, исправит ситуацию?
«Ионыч», фрагмент второго и третий абзац:
Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.
И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что.
Ничуть не лучше, но важно то, что оба классика не чурались «былок», спокойно их употребляя там, где считали нужным. Это, кстати, в противовес аргументам тех, кто настаивает на тлетворном влиянии английского языка. Мол, оттуда всё пришло, от проклятого to be (ещё и to have приплетают). При этом, забывая, что в русском всегда существовало слово «есть», которое в настоящем времени сейчас упразднилось, но осталось в будущем и прошедшем.
Плюс не стоит забывать, что пропавшее «было» часто приводит к рассогласованию времён, превращая прошедшее в настоящее. Например, «Сергей был молод и красив» и «Сергей молод и красив» — совсем не одно и то же.
Сам я «было» стараюсь избегать. Не потому что кто-то там начнёт обзываться «начинающим автором». Просто мне интересно перестраивать предложения так, чтобы навязчивое слово не сумело в них просочиться. Такая игра с самим собой. Не «Вася кинулся на кухню, но было поздно: Аннушка уже вылила всю водку в раковину», а «Вася метнулся на кухню, но опоздал: Аннушка вылила всю водку в раковину»; «Степан работал утилизатором плохих писателей» вместо «Степан был утилизатором плохих писателей»; «темнота окутывала лес» взамен «в лесу было темно». Чаще всего выкрутиться удаётся, если же нет, то я вспоминаю малазийский город Ипох и не парюсь.
Промежуточный вывод номер два: если творчество для вас не просто изложение того, что вам нашёптывает воображение, а процесс продуманного конструирования текста, то смело выпалывайте «былки», переделывайте предложения, жонглируйте словами. Если нет, и вы только записываете увлекательную историю, что рождается у вас в голове, то можно не усложнять себе жизнь. Слишком сильно засорять абзацы не стоит, но и трястись над каждым глаголом-диверсантом смысла нет.
Что ж, мы продрались через 7000+ символов и вплотную подошли к повторам. Их можно условно разделить на две группы: 1) одинаковые слова в пределах предложения или абзаца, 2) однокоренные или схожие фонетически.
Пример первых (зачем он нужен, самому непонятно):
Я шёл по Малой Колхозной. Район вокруг так себе, подстать названию. На противоположной стороне улицы кого-то били. Душевно так, увлечённо, не обращая внимания на тех, кто шёл мимо. С неба мелкой крупой посыпался внезапный снег. Некстати вспомнилось: «За окном шёл снег и рота красноармейцев».
Пример вторых:
Ключевой особенность повестки сегодняшнего заседания было включение в неё вопроса подключения новой партии ключей к домовым калиткам и домофонам. Представители домохозяйств проголосовали единогласно.
У вас тоже кровь из глаз пошла? А мне это ещё и придумывать пришлось. Заглянем к классикам?
Мамин-Сибиряк, «Серая шейка»:
Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.
Предвижу аргумент: «Сказка-то детская, там такое допустимо!», поэтому рекомендую вернуться к расположенной выше цитате из Достоевского. Там одних «квартир» и «хозяек» охапка. Здесь, с повторами, я буду более категоричен: пока мы не стали классиками, которым простят и авторскую пунктуацию, и четыре ошибки в слове «ещё», ловить повторы надо. Синонимы, другие слова и обороты — всё пойдёт в дело. Ведь если мы расслабились на первых двух пунктах Топ-3, то третий сделает читателю контрольный.
Я брёл по Малой Колхозной. Район вокруг так себе, подстать названию. На противоположной стороне улицы кого-то били. Душевно так, увлечённо, не обращая внимания на прохожих. С неба мелкой крупой посыпался внезапный снег. Некстати вспомнилось: «За окном шёл снег и рота красноармейцев».
Два «снега» я оставил. Иначе к исправленному примеру прицепиться не получится.
Итоговый вывод: как бы мы не мечтали о «чистом творчестве», которое «обязательно найдёт своего читателя», стоит понимать, что грамотное конструирование текста — важное умение, дающее больше шансов зацепить аудиторию и быть обнаруженным в пучинах сетературы. И в основе его должен быть баланс между выхолащиванием текста и «как бог на душу положит». Соблюдение этого баланса, во многом, и формирует ваш уникальный авторский стиль.  КО.
КО.
P.S. Большое спасибо всем, кто голосовал за «Девочку» на прошлой субботней трибуне. Она там выиграла и обзавелась замечательной картинкой. Благодарю, друзья!