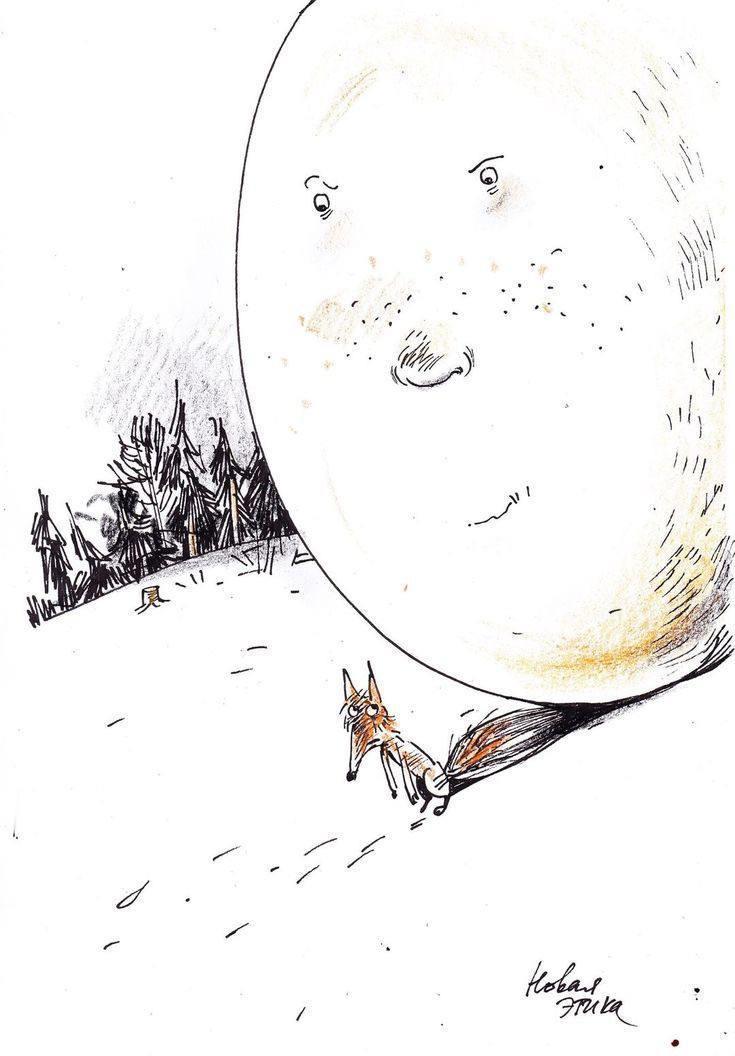Вредная Лиса кошмарит экспертов! А кто у нас сегодня эксперт?
Автор: Vrednaya LisaВсем привет!
Все Вы знаете нашу неистовую любовь задавать вопросы и сегодня нас интересует Ваше экспертное мнение, дорогие наши читатели.
Тема непростая, но интересная. Обещаем!


Размер допросной неумолимо растёт и сегодня Вредная Лиса и Любопытная Пума допрашивают всех всяк сюда входящих.
Присаживаемся и пристёгиваемся 
Итак, тема:
ДОСТОВЕРНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ
Источником вдохновения стала статья из литературного дневника Леонида Каганова.
Ссылка на статью  https://lleo.me/dnevnik/2009/01/29
https://lleo.me/dnevnik/2009/01/29
Предлагаем ознакомится с тезисами статьи и обсудить. Как видите ничего сложного.
Для затравки.
Про документализм
Многие считают, что художественная литература должна быть достоверной. В том смысле, что хорошо бы, если все описанное произошло с автором в реальной жизни. Если нет — автор хотя бы должен знать материал не понаслышке. И чтобы идеально написать книгу про Тунгусский метеорит, автору, дескать, следует прожить полжизни в тайге оленеводом, еще полжизни проработать геофизиком, еще полжизни — астрономом в Пулковской обсерватории, заодно желательно быть космонавтом, а в остальном, конечно, следует быть писателем.
Правильный ответ: каждый должен быть профессионалом в своем деле. Оленевод — разводить оленей, писатель — писать. Писатель пишет с ошибками (своими), и оленевод пишет с ошибками (своими). Писатель неправильным термином обозначил заднюю левую пуговицу собачьей упряжки. Зато оленевод не может выразить мысль, он в ответном письме в редакцию написал «тунгусский» с одиннадцатью грамматическими и так коряво составил фразы, что непонятно, о чем он вообще ведет речь, понравилась ему книга или нет. Стоит ли ругать оленевода за это? Так он же не писатель, — скажем мы, — какой с него спрос! Но разве писателя можно ругать за то, что он не оленевод?
Куда должен переехать жить автор научной фантастики или фэнтази?
Ваши варианты!
Да и в чем измерить достоверность? Если в сказке Колобок говорит с Лисой — почему никто не возмущается, что печеный хлеб не имеет ротового аппарата и произносить слова не способен? Допустил ли чудовищную ошибку автор сказки или сознательно солгал своим читателям? Путаница происходит от того, что у нас нет четких определений документальности. Вот если бы процент реальности произведения указывался на обложке как алкоголь на бутылке, было бы отлично. До 15% — слабореальные, от 15% — крепленые реальностью, от 35% и 40% — крепкие реальные, ну а выше 90% — документально-медицинские, технические и протирочные произведения, не рекомендованные для приема в неразбавленном виде. Последнее особенно следует отметить, потому что такая книга тоже есть, и называется справочником.
Ваша процент достоверности в тексте?
Автор статьи говорит о такой задаче, как достоверно описывать чувства. Вот послушайте:
Почему лучшие песни о войне писал театральный актер Высоцкий, который ни дня не воевал? Во всех ли подробностях он знал, как несется в атаку самолет-истребитель 40-хх? Почему лучшие детективы писали Конан Дойль и Агата Кристи, которые не ограбили ни одного банка, не украли ни одного бриллианта, не застрелили ни одного садовника? Почему фантастику пишут люди, которые никогда не высаживались на Сириусе и не сражались с эльфами на магических клинках? Может потому, что они умеют то, чем отличается их профессия, — писать так, что читатель поймет, вовлечется, поверит, скажет: да, это достоверно? То, что не умеют оленевод, физик, историк, криминалист?
Что же делает текст достоверным, если не изложенные в нем факты? Ответ прост: читатель — человек. Физик, оленевод, танкист, даже грабитель банка, — все они люди. У них разный опыт, образ жизни и лексикон, но каждому знакомы единые для всех чувства: победа, страх, боль, любовь, досада, любопытство, одиночество, счастье, предательство, находка, утрата, удивление, ненависть... Все это знакомо и тому, чья профессия — писать книги. Это — его набор инструментов. И это именно то, чего недостает Энциклопедическому словарю.
Сможет читатель высоко оценить фантастическую или научно-фантастическую историю, если сеттинге будет описан минимально, а эмоции героев при этом будут раскрыты в полной мере?
Автор статьи не оставляет нам шанса и говорит:
"Минимум подробностей"
Кому это нужно, описывать пуговицы упряжки? Городской житель этого не оценит, а оленевод обязательно найдет ошибки. Причем, еще подерется с оленеводом соседнего пастбища, где эти пуговицы называют иначе. И два физика тоже подерутся, стоит вам уйти в описание научных глубин, где еще не утихли споры профессионалов.
Наплюйте на подробности! Вы только утомите дилетанта и разозлите профессионала. Наплюйте на мелкие ошибки. Когда Аркадию Стругацкому доказал читатель, что не существует ни одной модели люгера с оптическим прицелом, тот отказался исправлять рукопись. Да и с какой стати?
Необходимая граница фактов и технических деталей — это уровень непрофессионала, вашего читателя. И чуть-чуть выше, чтобы не выглядеть непрофессионалом в их глазах. Пистолет стреляет из дула, если нажать на спусковой крючок — это знают все. И этого достаточно.
Что скажите про пуговицы и пистолеты? Стоит углубляться, чтобы рассказать небольшую истории пуговицы, подводящей к мундиру героя?
Когда вредна достоверность?
Почему книги о разведчиках пишут люди, никогда не служившие в разведке? Да потому что профессиональный разведчик никогда не напишет такую чушь, с его точки зрения. «Это провал за провалом, — скажет он, — вопиющая ошибка за ошибкой! Неправильно всё! Работа разведчика, — скажет он, — это скучный сбор информации из местных газет десятилетиями, терпеливая вербовка информаторов из местных. Но — боже упаси! — никаких погонь, никакой стрельбы, ни единого резкого движения! Иначе — провал, вопиющий дилетантизм! Так не надо писать книги! — скажет разведчик.» А как надо? Кому нужна книга о том, как профессиональный разведчик год за годом ловит новости в газетах и пытается вербовать в кафе местных журналистов? Без единой погони? Без люгера с оптическим прицелом? Кому это интересно? Такой книгой даже профессиональные разведчики зачитываться не будут.
Книга — это про историю или про событие?
Что мешает читателю ощутить достоверность?
Допустим, вы пророк или пришелец из будущего или гениальный ученый, и вам доподлинно известно, как будет устроен космический корабль в 24 веке. И вы пишете роман о двигателе звездолета:
— Как известно, наш корабль движется со скоростью в три раза превышающей скорость света! — произносит командир корабля Добров, обращаясь к звездолетчикам.
— А все потому, — вскакивает бортинженер Северов, — что мы используем в нашем двигателе энергию гравитационного распада плазмы!
— Но как же наш корабль выдерживает такие нагрузки? — удивленно поворачивается к нему штурман, красавица Легкова, и, не дожидаясь ответа, сама уточняет: — Ах, я и забыла про уникальное покрытие из кристаллических ионов!
Назовет ли читатель такой текст достоверным? Вам никто не поверит, даже если описанное — чистая правда, в которой человечество убедится через каких-нибудь жалких 300 лет. Почему? Да потому что описанная сцена — недостоверна. Читатель не разбирается в устройстве звездолетов, зато прекрасно чувствует фальшь и видит, что космонавты пытаются разговаривать с ним, а не друг с другом.
А вы почувствовали в диалоге фальшь?
Первая ошибка сцены в звездолете — не следовало строить повествование на основе технической идеи. Вообще. Никогда. Вас посетила уникальная техническая идея? Прекрасно! Пишите заявку в патентное бюро, высылайте тезисы на научный симпозиум. Ваша идея слишком фантастическая для патентного бюро? Вам мерещится уникальный прогноз? Поделитесь с мамой, обсудите в интернете. В крайнем случае напишите статью в художественный журнал, мол, есть такая идея... Статья — это максимум, большего идея не стоит. А литературная идея и вовсе не стоит ничего — она по закону даже не является объектом авторского права.
И в завершении темы:
Книга — сущность, живущая по иным законам, которые сродни драматургическим. Главное здесь — сюжет, который выражается через конфликты персонажей. Сценаристов учат, что любой сценарий должен описываться фразой «это история о [герое], который [действует]». И это правило полностью относится к миру художественной литературы. История об уникальном пропеллере — это не история. История — это о Карлсоне, который живет на крыше. Что с того, что вы придумали встраивать в человеческое тело пропеллер? Пока вы не выдумаете Карлсона с его характером и привычками, пока не выдумаете для Карлсона Малыша с его проблемой одиночества, вечно занятыми родителями и злой нянькой, пока не выстроится сюжетная конструкция, в которой ваша идея отойдет на второй план, — у вас нет книги. А когда вы создадите мир и населите его персонажами, то идея, казавшаяся поначалу главной, превратится в забавную декорацию, и будет уже не важно, какой она была. Встраивался пропеллер прямо через позвоночник в кишечник или это были просто штаны с малогабаритным моторчиком?
Ну что, прочитали?
Возмущены?
Закипаете?
Самое время ответить на вопросы и высказать своё экспертное мнение по существу.


Всё пространство комментариев Ваше!
А мы, Вредная Лиса и Любопытная Пума с нетерпением ждём Вашего мнения!