Об авторском мировоззрении, презентизме и анахронизмах
Автор: Марина Зубкова«Как только речь заходит о литературе, здравый смысл у людей испаряется, и все обретают уверенность, что для этой специальности не нужно ни обучения, ни опыта – только уверенность в своём даровании и храбрость льва».
Марк Твен
«Я — или бог — или никто!»
М. Ю. Лермонтов
Не буду скрывать – я написала свой фанфик, разозлившись на автора оригинального произведения как из-за многочисленных нестыковок в сюжете, так и искажений не только исторических событий, общеизвестных бытовых и природных явлений, но даже написанного ранее самой писательницей: изменения дат придуманных ею же событий, возраста, званий и даже внешности некоторых персонажей. И в связи с этим у меня возникли вопросы: насколько ответственно автор подходит к своей работе? Уважает ли он своего читателя или пишет всё, что ему взбредёт в голову? Что для него важнее – интересный сюжет, образ героя или достоверность изображенной в произведении реальности? И правомерно ли жертвовать одним ради другого?
Все, что вы прочтёте дальше, найдено мной в интернете.
Автор определенным образом подает и освещает реальность (бытие и его явления), их осмысливает и оценивает, проявляя себя в качестве субъекта художественной деятельности.
Художественная идея (концепция автора), присутствующая в произведениях, включает в себя и направленную интерпретацию, и оценку автором определенных жизненных явлений, и отражение философического взгляда на мир в его целостности, которое сопряжено с духовным самораскрытием автора.
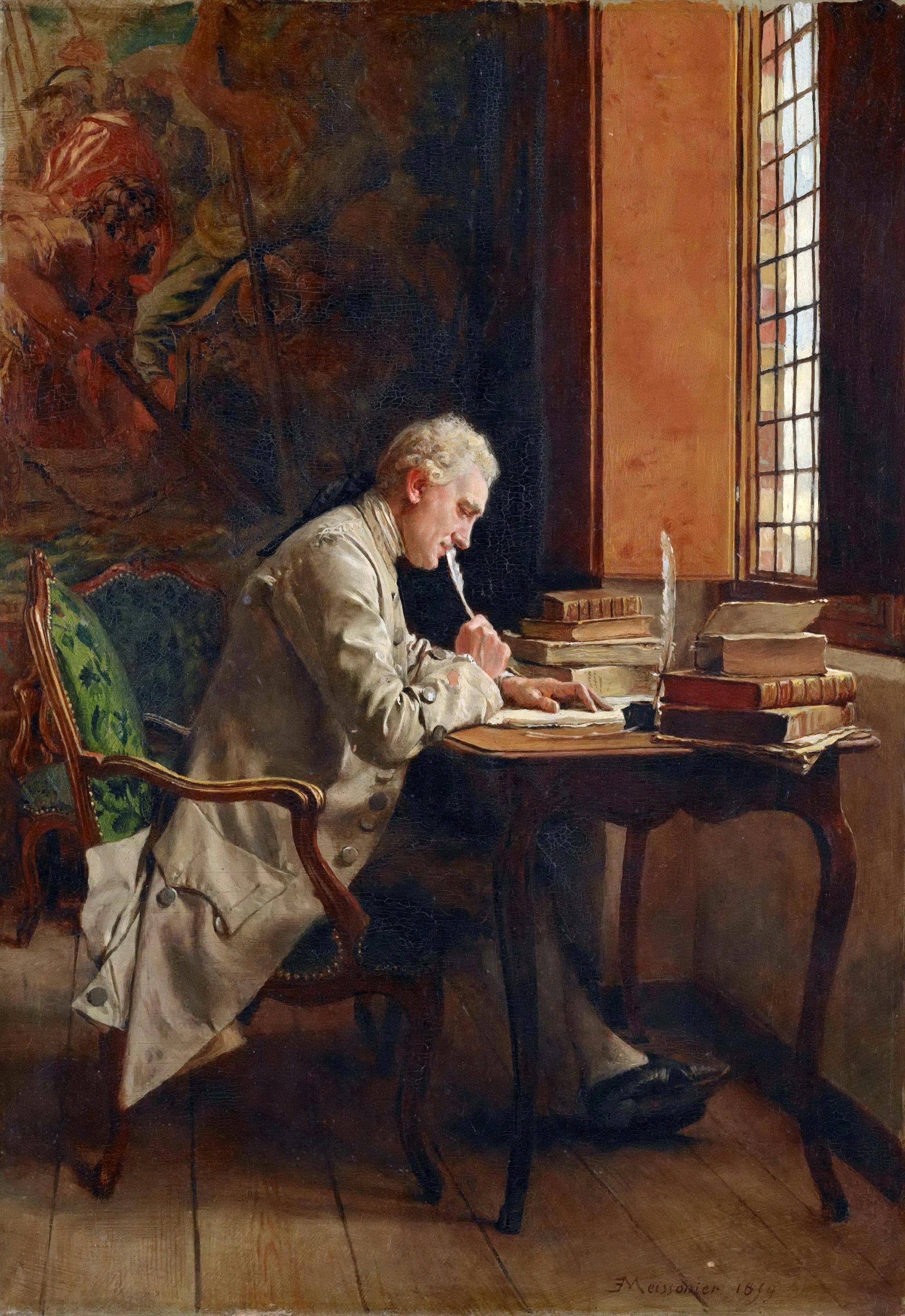
Жан-Луи Эрне́ст Мейссонье́ (Мейсонье). Сочинитель
Авторское мировоззрение проявляется в литературном произведении не всегда буквально. Образ автора в литературном произведении, как правило, не полностью совпадает с реальной личностью писателя. При этом автор в литературном произведении, с одной стороны, наделен широкими возможностями в изображении героев, а с другой – обладает богатым спектром самовыявления. Именно отсюда и возникают многообразные разновидности и формы авторства: писатель может выступить и как непосредственный участник события, и как сторонний наблюдатель, и как рассказчик, от лица которого читателю будет поведана история, и как человек, организующий формально-содержательный центр художественного видения. Автор является центром того «замкнутого бытия», в границах которого возникает своеобразный художественный мир, существующий по своим законам.
Самораскрытие автора, имеющее во многих случаях исповедальный характер, составило весьма существенный пласт литературы ряда эпох, в особенности в XIX и XX столетиях. Писатели неустанно рассказывают о себе, о своих духовных обретениях и свершениях, о драматических и трагических коллизиях собственного существования, о сердечных смутах, порой заблуждениях и падениях.
Однако, автор, по словам А. Камю, «неизбежно говорит больше, чем хотел». Для творчества писателя наиболее значимы не его теоретические воззрения, рациональные и систематизированные, а непосредственно-оценочное отношение к жизни, названное миросозерцанием.
Это прежде всего те «аксиоматические» представления (включая верования), в мире которых живет создатель произведения как человек, укорененный в определенной культурной традиции. Это также «психоидеология» общественной группы, к которой принадлежит писатель. Далее, это вытесненные из сознания художника болезненные комплексы, в том числе сексуальные, которые изучал З. Фрейд. И наконец, это надэпохальное, восходящее к исторической архаике «коллективное бессознательное», могущее составлять «мифо-поэтический подтекст» художественных произведений, о чем говорил К. Г. Юнг.
В последние десятилетия идея дегуманизации искусства породила концепцию смерти автора. По словам Р. Барта, ныне «исчез миф о писателе как носителе ценностей». (Хазлиев В. Е. «Теория литературы»).
Если речь идет об исторических жанрах художественной литературы, интерпретирующих известные исторические события, то следует отметить, что всякая попытка реконструкции истории имеет полное право на существование, поскольку авторы таких произведений чаще всего используют результаты исторических исследований, сознательно следуя за объектом научного поиска и делая его объектом собственного художественного познания.
Однако, следует подчеркнуть, что в оценках, присутствующих в произведениях некоторых писателей, не всегда содержится истина. Несмотря на их стремление к объективности, они остаются людьми (творцами), главной задачей которых (учитывая их принадлежность к художественному «цеху») остается творческое отражение реальности в художественных образах, а не поиск истинного знания.
В результате интеграции данных элементов и частичного преобладания одного или нескольких из них в подходе к конкретным событиям, личностям, фактам действительности предлагаемые оценки могут быть объективными, субъективными, правдивыми, или представлять собой авторское заблуждение.
Чем больше писатель отрывается от объекта в поиске новых образных форм, тем больше страдает содержание, предлагаемой им информации, а в оценках нарастает присутствие субъективизма. Вместе с тем, подобный результат может быть обусловлен и совершенно искренними заблуждениями автора, продиктованными его недостаточной информированностью.
(Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета»)
Поэтому во многих литературных произведениях можно встретить немало анахронизмов.
Анахрони́зм (от др.-греч. ἀνα- – приставка со значением обратного действия + χρόνος «время») – в исторической науке, литературе, кино – ошибочное, намеренное или условное отнесение событий, явлений, предметов, личностей к другому времени, эпохе относительно фактической хронологии.
Самый популярный пример анахронизма в литературе – это механические часы с боем и шляпы в «Юлии Цезаре» Шекспира. Однако я могу привести немало других примеров из романов «Чужестранка» и новелл о лорде Джоне Грее Д. Гэблдон, действие которых происходят в середине XVIII в.:
промокательная бумага (которую изобрели только в XIX в.)
золотые пломбы у живущей в Филадельфии негритянки в 1778 г.
художественный ластик для стирания (до конца XVIII в. вместо него использовали хлебный мякиш)
рогатки с резинками (эластичная тесьма-резинка появилась только в начале XX в.)
виноград, индийский крайт и хунган - гаитянский жрец вуду на Ямайке
цветущая айва на Кубе
разрывные, начинённые порохом картечные снаряды
роликовые коньки (во время бала в 1760 году изобретатель Джон Джозеф Мерлин Мерлин въехал на роликах с колёсами около 20 см. в диаметре в большое зеркало, отчего оба пострадали. Новинку сочли травмоопасной и забыли о ней до XIX в.)
...и многое другое.
Многие писатели-фантасты в своих произведениях о будущем допускают ненамеренные анахронизмы из-за происходящих позднее реальных политических и технологических изменений. Например, у братьев Стругацких, чтобы перепрограммировать ЭВМ «ЛИАНТ» в XXII в. приходится копаться в её «внутренностях», а в романе американского фантаста Айзека Азимова «Конец Вечности» в невообразимо далёком будущем «Реальности» при разных «Изменениях» моделируются с помощью мощной вычислительной техники, однако для распечатки результатов вычислений используется перфолента, информацию с которой Техник Главного Вычислителя виртуозно «читает с листа».
Иными словами, это проецирование своего образа мышления (априори искажённого) на другие исторические времена. Чаще всего такое явление в искусстве называют «презентизмом».
Презентизм (от англ. present – настоящее) в широком смысле этого слова – философское и историческое течение, отрицающее объективность исторического познания и рассматривающее историческую науку как проецирование в прошлое современных стремлений и понятий. Наиболее резко презентизм выражен в работах американских историков К. Беккера и Ч. Бирда, считающих, что в истории не может быть объективной истины, что суждения историков лишь отражают их субъективные переживания. Свои теории они изложили в начале XX века в работах Beard Ch. Α.: The discussion of human affairs, N. Y., 1936 и Весker С. L.: Everyman his own historian: essays on history and politics, N. Y.,
Это приводит к крайнему релятивизму, к выводу, что каждый человек создает свою картину исторического прошлого, которые одинаково правомерны. Исторические обобщения становятся при этом «актами веры» (Бирд). Презентизм объективно является теоретическим обоснованием модернизации прошлого.
Итак, если существует такой подход к исторической науке, то что говорить о произведениях художественной литературы, особенно в жанре исторического или историко-фантастического романа, где исторические события служат для автора лишь фоном, помогающим ему раскрыть характеры его героев и заинтересовать читателя приключениями и неожиданными поворотами сюжета. Как тут не вспомнить исторические мифы, созданные писателями, и накрепко засевшие в нашем сознании – например, о том, что Ричард III был хромым горбуном, или о том, что Жанна Д’Арк была простой крестьянкой, которую сожгли на костре, или (да простят меня отечественные преподаватели литературы) о том, что Москву в 1812 г. подожгли русские патриоты?
Говоря о фантастической литературе – особенно о произведениях с сюжетом о современнике автора, который попадает в иной мир или в иную эпоху (иначе говоря, истории про попаданцев), то подобные романы появились еще в конце XIX в. («Янки при дворе короля Артура» М. Твена, «Машина времени» Г. Уэллса) и с тех пор в течение всего XX века стали набирать популярность, благодаря известным (и не очень известным) писателям, начиная от «Принцессы Марса» Э. Берроуза, «Странника по звездам» Джека Лондона, «Пылай, огонь» Д. Д. Карра и заканчивая Робертом Шекли («И грянул гром»); А. Азимовым («Конец вечности»), Д. Дюморье («Дом на берегу») и многими другими.
Главный смысл этих произведений – описать приключения героя в прошлом либо в ином мире и показать, как его знания и профессия помогают ему выжить и найти там свое место. И даже изменить ход истории того периода, в который он попал. Ведь знания XX века дают герою несомненное преимущество перед жителями прошлой эпохи. Можно создать атомную бомбу или пенициллин – суть дела не меняется. Попаданец смотрит на окружающий мир глазами человека своего «передового» времени, и, следовательно, проецирует на него свои представления и понятия.
Но главное другое: автор, описывая мир прошлого, тоже судит о нем с точки зрения своего времени (он же не историк, а писатель), излагая только то, что укладывается в его представление о характере героя и помогает «двигать» сюжет. Это и есть тот самый презентизм. Например, шотландские писатели В. Скотт и Р. Л. Стивенсон в конце XIX в. создали очень привлекательные образы шотландцев в целом – и отдельных личностей в частности, идеализировав жителей Лоуленда (Равнин) и Хайленда (Нагорья). Хотя на самом деле история этих мест изобиловала такой жестокостью, насилием и абсолютно не рыцарским поведением, что дала бы 100 очков вперед коварству итальянцев средних веков с их склонностью к вендетте. В отечественной «высокой» литературе больше всего искажений у А. Толстого в его романе «Пётр I». Но главным «исказителем» истории в литературе по праву считается А. Дюма – недаром его постоянно экранизируют современные кинематографисты, с каждым разом создавая все более фантастический мир XVII в.
Итак, презентизм присущ любому автору любого художественного произведения, и трактовка исторических фактов в пользу взглядов излагающего эти факты (и даже искажение их) – самое обычное явление как в массовой, так и в «высокой» художественной литературе.
***
