Другое небо
Автор: Павел ВиноградовИскин, которым оперировал канадский постмодернист Нульманн, не только написал отзыв на мой рассказ «Новое небо», который сейчас играет во внеконкурсе «Нереальной новеллы», но и создал по его мотивам собственный текст. Он довольно любопытен и в какой-то степени дополняет мой, а в какой-то полемизирует с ним. Так что вешаю его тут под спойлером.
Он довольно любопытен и в какой-то степени дополняет мой, а в какой-то полемизирует с ним. Так что вешаю его тут под спойлером.

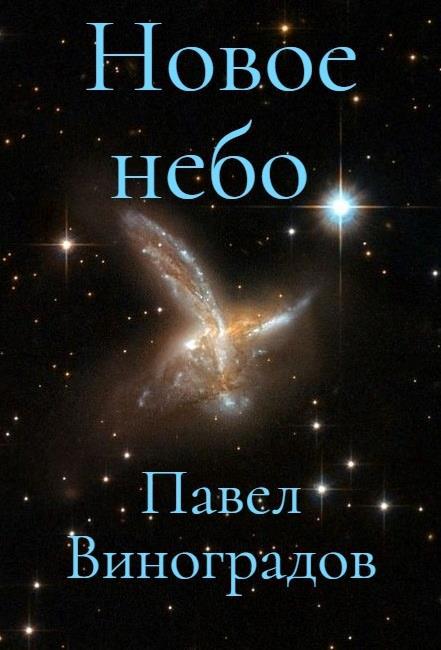 Другое небо
Другое небоТимофей стоял, и привычная карта капитана в голове — та, где есть «берег», «скалы», «цель» — стремительно бледнела. Его глаза видели чёрный песок и стену скал, светящихся тусклым, больным зеленцой. Но другая карта, та, что рисовалась нервами, кричала, что это не песок, а шкура, что скалы — не камни, а рёбра, и они медленно расходятся на вдохе этого проклятого мира.
— Энергии распада изотопов достаточно для поддержания плюсовой температуры, — сказал он вслух. Фраза повисла в густом воздухе мёртвым, деревянным звуком. Он сам себя не понял. Зачем он это сказал? Чтобы услышать голос из учебника, голос с той карты. Он прозвучал как чужой.
— Жизнь? — спросила Мадлен. Её голос, обычно такой ровный, дрогнул на последнем слоге. Она смотрела не на океан, а на эти пляшущие узоры света на камнях. Её карта ксенобиолога жаждала нанести на них маркеры: «колония», «биолюминесценция», «метаболизм». Но узоры уплывали от взгляда. Они не горели — маячили, как сквозь туман, и возникало чувство, будто это не они светятся, а выжигают собой тьму, ненавидя её. Ни одна карта жизни такого не предусматривала.
— Куда же нас, чёрт возьми, занесло? — Сэм не ругался, а констатировал. Его карта практика, пилота, который всегда знает «точку А» и «точку Б», была чиста. Пуста. Он вертел головой, и его глаза, эти узкие просеки, сканировали горизонт, ища хоть один якорь: звезду, силуэт корабля, хоть тень знакомого созвездия. Не находили. Он чувствовал это — физическую тошноту от отсутствия координат. Его карта была не просто неверна. Её не было.
— Работать будем, — бросил Тимофей и почувствовал, как фраза падает в тишину, как в вату. Работать. С чем? Исследовать. Что? Слова были пустыми скорлупками. Он двинулся вперёд, и его тело, закалённое в центрифугах, шло неправильно. Шаг был слишком лёгким, будто гравитация шутила с ним, и в следующий миг могла отпустить — или раздавить. Он шёл по песку, а в голове, поверх карты капитана, возникала другая: карта дитя, потерявшегося в лесу, где каждое дерево смотрит в спину.
Они нашли расщелину. Вход в чёрную каменную пасть. Тимофей посмотрел назад, на следы. Они казались ему теперь не отпечатками подошв, а шрамом, который они нанесли шкуре планеты. И шрам тот затягивался на глазах, песок медленно пополз, чтобы стереть их присутствие.
— За мной, — сказал он, и это был уже не приказ. Это был спасённый звук. Ритуал. Пока они выполняют ритуал движения, они ещё люди, а не просто комки паники в чуждой плоти мира.
Внутри было не темно. Было глухо. Свет Мадлен выхватывал стены, испещрённые теми же узорами. Но здесь они шевелились. Не просто пульсировали — извивались, сползали вниз, перетекали друг в друга. Мадлен замерла. Её рука с пробоотборником опустилась.
— Это не реакция на свет, — прошептала она. — Это… реакция на взгляд. Они… чувствуют, что мы смотрим.
Её карта науки треснула с тихим хрусталем. Ни один учебник, ни одна гипотеза не предусматривала, что свечение может стесняться или злиться. Она сделала шаг к стене, заворожённая. Хотела понять.
В этот момент из динамика в их шлемах хрипло, с дикой, нечеловеческой иронией проговорил голос Сэма:
— Ну что, язычники, прочувствовали? Господь меня зовёт отсюда. Я домой.
Иллюзия общей карты, карты экипажа, разлетелась в прах. Карта Сэма была теперь намалевана огненными буквами «СПАСЕНИЕ» и вела прямиком в безумие.
Тимофей обернулся. Сэма не было. Он исчез не как человек — как сигнал. Стерся. И в эту щель, в эту дыру в реальности, хлынуло ощущение от мира вокруг. Оно пришло не образами. Оно пришло как давление.
Оно было тяжёлым, как свинец в жилах. Холодным, но не морозом — холодом глубины, где нет ни тепла, ни жизни, ни времени. Чужим настолько, что мозг Тимофея, пытаясь найти хоть какую-то аналогию, выдал единственное: вкус цвета, которого нет. И этот вкус заполнял всё.
Мадлен стояла, глядя в пустоту, где был Сэм. Её лицо под стеклом шлема было спокойно. Слишком спокойно.
— Тимо, — сказала она тихо. — Мы ошиблись. Мы всё читали с конца. Это не мы прилетели исследовать их.
Её голос был плоским. Голосом, читающим диагноз.
— Это они вызвали нас. На смотрины. Чтобы посмотреть, что такое непонимание. Как оно выглядит изнутри. Им… любопытно.
Тимофей хотел закричать. Хотел схватить её, бежать. Но его тело не слушалось. Оно было залито этим вкусом несуществующего цвета. Он смотрел на Мадлен, и видел, как её образ начинает двоиться. Не в глазах. В понимании. Вот она — Мадлен Лефевр, ксенобиолог. А вот она же — просто узор на огромной, равнодушной карте, которая даже не знает, что на неё смотрят. Оба образа были правдой. И ни один.
Он больше не понимал, где он. Не понимал, кто она. Последней мыслью, ещё отдававшейся эхом его прежней карты, было: 'Это и есть новое небо'.
А потом пришло оно. Не существо. Не явление. Состояние. Полное, окончательное, безусловное не-знание.
Иллюзия понимания исчезла без следа. Не осталось даже вопроса «почему?». Осталась только чистая, идеальная, всепоглощающая инаковость.
Она не была враждебной. Она была окончательной. И в этом было хуже всего.
