"В город пришла беда". Фильм 1966 года выпуска. Уроки и современность борьбы с вирусами и инфекциями
Автор: Дмитрий БочарникПосмотрел сегодня фильм «В город пришла беда». И – не впечатлило. Хотя вроде бы две серии, хотя вроде бы очень похожий на классический «фильм-катастрофу», столь знакомый по постсоветским временам. И всё же, всё же, что-то очень изменилось в моём восприятии. Потому, наверное, и не впечатлило.
Очень многие моменты, которые сейчас практически обязательны для подобных фильмов, в этой ленте отсутствуют в принципе. В некоторых случаях у меня создалось твёрдое впечатление, что эти моменты вымараны, впрочем – довольно умело и для поверхностного взгляда – не заметно.

Фильм – чёрно-белый, старый, 1966 года рождения, то есть старше, чем я сам. К тому же, как потом прочёл в комментах на ряде интернет-сайтов, этот фильм мало где показывали. По сути он прошёл мимо внимания даже советского зрителя. В прочитанных мной материалах Интернета отмечалось, что долгое время он служил «учебным» фильмом для медицинских подразделений гражданской обороны. Потому, наверное, для широкого зрителя он и остался малоизвестным.
Отмечу, что для страны с огромным среднеазиатским «кластером» внимание к подобным ситуациям – всё же чёрная оспа это весьма смертельно – должно быть на высочайшим уровне. А тут… Тут этого высочайшего внимания в реальности не наблюдалось. Да и в самом фильме напряжение очень быстро спадает и остаётся «поверхностный протокол» выполнения рутинных действий, необходимых в такой ситуации.
В отзывах, которые я прочёл, фильм определяется – и, на мой взгляд, весьма справедливо – как пропагандистский и учебный. В общем и целом – художественности в нём – мало. А документальность, которая в этом фильме имеется – она оказалась крайне беспощадна к недостаткам советской системы, которые даже в порезаном цензурой «учебном» фильме скрыть не удалось.
В Википедии есть статья, посвящённая режиссёру фильма – Марку Евсеевичу Орлову (ссылка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 ), но она до сих пор имеет вид куцей заготовки. Причины такой «заброшенности» мне не очень понятны. Все основные сведения присутствуют: год и место рождения М.Е.Орлова, год смерти, награды, краткая «по датам» биография, фильмография.
Родился Марк Орлов в 1925 году в Одессе. В статье Википедии он позиционируется как советский и российский кинорежиссёр. Окончил актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского. С 1949 года работал актёром Тульского, затем - Ногинского театров. С 1954 года – режиссёр Центрального Телевидения.
Фильм «В город пришла беда» в википедийной статье позиционируется как первая режиссёрская работа Марка Орлова. Последней же работой стал сериал «Петербургские тайны», снимавшийся в 90-е годы двадцатого столетия. Отмечу также, что Марк Орлов был режиссёром таких фильмов, как «Сердце Бонивура», «Обретёшь в бою», «Человек в проходном дворе».
«Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия» - см. по ссылке https://megabook.ru/article/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 фильм «В город пришла беда» вообще не упоминает среди работ Марка Орлова, что настораживает. К тому же Мегаэнциклопедия указывает, что фильмография, перечисленная в Википедии неполная – есть ещё два фильма, которые по годам съемок и выхода предшествовали «В город пришла беда»: «Память поколения» и «Страницы первой любви». Получается, что свою кинорежиссёрскую карьеру Марк Орлов начал раньше, чем им был снят фильм «В город пришла беда».
Фильм «В город пришла беда» был, оказывается, снят по одноимённой повести Александра Мильчакова. Автор повести стал сценаристом фильма. Я не смог, как ни пытался, найти в Гугле хотя бы одну ссылку на текст этой повести.
А вот об авторе текста повести и, соответственно, одновременно об авторе сценария фильма информацию удалось найти только в комментариях на сайте «Кинотеатр.ру» - один из зрителей расстарался и пролил свет на это тёмное для многих людей «пятно». Я привожу цитату полностью, а затем дам ссылку на источник заимствования:
«Александр Александрович Мильчаков родился 16 марта 1931 года. Из роддома он сразу был привезен в новую квартиру Дома на набережной и стал, таким образом, первым новорожденным ребенком нашего дома.
Его отец Александр Иванович Мильчаков (1903-1973) работал в руководящих органах комсомола, в 1928-29 гг. являлся Генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. С 1932 по 1938 гг. находился на руководящей работе в золотодобывающей промышленности СССР. В конце 1938 г. был репрессирован и более 16 лет находился в Норильском и в Магаданском лагерях. В 1954 г. реабилитирован, вернулся в Москву.
В 1949 г Саша Мильчаков закончил школу № 12 в Старо-Монетном переулке, затем – МХТИ им. Менделеева. Получив диплом инженера и поработав на производстве, в дальнейшем посвящает себя литературному творчеству и журналистике. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, работал в редакции ряда газет и журналов («Рационализатор и изобретатель», «Смена», «Комсомольская правда»). Долгие годы работал спецкорреспондентом в редакции газеты «Труд», а затем старшим редактором в Гостелерадио СССР. Его перу принадлежит ряд книг, очерков и рассказов. По его повести «В город пришла беда» был снят двухсерийный художественный фильм на киностудии имени Довженко. Книга была переведена на несколько иностранных языков и издана в ряде стран Восточной Европы».
Ссылка - https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/83992/forum/f3/
Гугл категорически отказывается дать ссылку на текст повести. Не хочется предполагать, что текст исчез «намеренно», но факт остаётся фактом: ссылки на сайты с информацией о фильме – в наличии и их достаточно много, а ссылок на текст повести, вроде бы широко известной – нет.
Уточню сразу, что фильм – телевизионный, хотя и снимался на киностудии, а не какой-нибудь телестудией. Повествует о событиях, происходивших в Москве в 1959-1960-х годах, когда в СССР была с Востока завезена «пурпурная оспа».
Для желающих углубить или восстановить свои знания об «оспе натуральной» - ссылка на весьма содержательную, большую и познавательную статью в Википедии:
Здесь же отмечу только две цитаты из этой статьи, на мой взгляд – наиболее показательные:
«Натура́льная или чёрная о́спа (лат. variola, variola vera; праслав. *о-sър-а — сыпь, ) — высокозаразная вирусная инфекция, особо опасная болезнь, характеризуется тяжёлым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. Её вызывают два вида вирусов: Variola major (летальность 20—40 %, по некоторым данным — до 90 %) и Variola minor (летальность 1—3 %), которые относятся к семейству Poxviridae, подсемейства Chordopoxvirinae, рода Orthopoxvirus. Люди, выживающие после оспы, могут частично или полностью терять зрение, и практически всегда на коже остаются многочисленные рубцы в местах бывших язв.

Переболевшие оспой обладают стойким иммунитетом к этой болезни.
Последний случай заражения оспой был зарегистрирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка[2]. Летом 1978 года был зафиксирован самый последний известный случай оспы[en], который унёс жизнь 40-летней Дженет Паркер, медицинского фотографа[3]. Канадский вирусолог Дэвид Эванс, восстановивший в 2018 году вирус лошадиной оспы, доказал, что человек с навыками лаборанта сможет в простой лаборатории вернуть к жизни любой вирус, считающийся вымершим — например, натуральную оспу[4].»
«Считается, что в настоящее время вирус натуральной оспы существует только в двух лабораториях в мире: в ГНЦ ВБ «Вектор» (Россия) и в CDC (США). Многие эксперты призывают к их уничтожению в целях безопасности.
В июле 2014 года шесть пробирок с вирусом были обнаружены в забытой картонной коробке на складе в кампусе института здравоохранения в Мэрилэнде. Компетентные органы не исключают, что этот случай не единичен[37]. Было установлено, что вирус сохранял жизнеспособность. 24 февраля 2015 года пробирки были уничтожены под надзором представителя ВОЗ[38].
В 2010-е годы проходила информация о появлении натуральной оспы в отдалённых районах Африки (в том числе от российских врачей[39]). Из-за того, что современные врачи на практике уже не сталкивались с натуральной оспой, они могли спутать её с другими похожими, но менее опасными для человека заболеваниями — ветрянкой, оспой обезьян[40][41].»
Поскольку повесть, а затем и сценарий фильма были «основаны на реальных событиях», думается, следует повнимательнее присмотреться к тому, какими были эти события. Равно как и к тому, как эти события нашли отражение в фильме. Текст повести мне недоступен, потому я буду в основном говорить о содержании фильма.
Развёртка сюжета фильма начинается с возвращения в Москву обласканного богемой художника Кокорекина. Википедия повествует о нём беспощадно сухо и чётко. См. по ссылке - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Зацитирую только некоторые моменты из этой статьи:
«А. А. Кокорекин родился 17 (30) марта 1906 год в Сарыкамыше (ныне в Турции). В 1927—1929 годах учился в Кубанском художественно-педагогическом техникуме. С 1929 года в Москве. Выполнял тематические картины, иллюстрации, пейзажи. Известен главным образом как плакатист. В своих политических плакатах воплощал мужественные, волевые характеры советских людей, обращался к крупномасштабным изображениям и живописным (порой близким к станковым) цветовым решениям. В 1941—1943 годах — художник Военного издательства при ПУ РККА, с 1943 года — СВХ имени М. Б. Грекова. Участвовал в выпуске «Окон ТАСС».»

И отмечу, что умер Кокорекин именно в декабре 1959 года, став первой и, к сожалению, не единственной жертвой оспы, которая, как оказалось, в те «советские» времена ещё не была окончательно и бесповоротно побеждена «на всём земном шаре».
Поскольку Интернет славен «копипастой», в упомянутой выше статье есть цитата из другой статьи. На мой взгляд, она весьма показательна и заслуживает приведения полностью:
«Московский художник Кокорекин посетил Индию. Ему довелось присутствовать на сожжении умершего брамина. Набравшись впечатлений и подарков для любовницы и жены, он вернулся в Москву на сутки раньше, чем его ждала жена. Эти сутки он провёл у любовницы, которой отдал подарки и в объятиях которой не без приятности провёл ночь. Подгадав по времени прилёт самолёта из Дели, он на следующий день приехал домой. Отдав подарки жене, он почувствовал себя плохо, повысилась температура, жена вызвала «Скорую помощь», и его увезли в инфекционное отделение больницы имени Боткина… К утру больной затяжелел и умер. Производивший вскрытие патологоанатом пригласил в секционный зал заведующего кафедрой академика Н. А. Краевского. К Николаю Александровичу приехал в гости старичок патологоанатом из Ленинграда, его пригласили к секционному столу. Старичок посмотрел на труп и сказал: «Да это, батенька, variola vera — чёрная оспа». Старик оказался прав… Завертелась машина Советского здравоохранения. Наложили карантин на инфекционное отделение, КГБ начал отслеживать контакты Кокорекина… Как выяснилось, жена и любовница повели себя одинаковым образом — обе побежали в комиссионные магазины сдавать подарки. Обозначились несколько случаев заболевания оспой в Москве, окончившихся летальным исходом. Больницу закрыли на карантин, было принято решение вакцинировать оспенной вакциной всё население Москвы.
— Ю. В. Шапиро, «Воспоминания о прожитой жизни»[2]
Обстоятельства возвращения художника 23 декабря 1959 года из Индии и дальнейшие события его дочь Валерия описывала совершенно по другому. В аэропорту «Внуково» Кокорекина встречали его жена, дочь от первого брака и знакомый за рулём автомобиля. На самочувствие художник не жаловался, из аэропорта все вместе поехали к нему домой. Уже вечером Кокорекин почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, начался сильный кашель, всё тело охватила острая боль. На следующий день художник побывал в поликлинике, где терапевт поставил ему диагноз «грипп». Состояние продолжало ухудшаться, возникла лихорадка и сыпь по всему телу. 27 декабря Кокорекина госпитализировали в Боткинскую больницу, где положили в общую палату с гриппозными больными. 29 декабря у художника началась агония, и вскоре в присутствии срочно вызванных родственников Алексей Алексеевич Кокорекин скончался. После вскрытия тело было кремировано в Донском крематории с соблюдением чрезвычайных мер предосторожности. Похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища[1].
В отчёте о московской вспышке оспы, опубликованном в монографии А. Ф. Серенко, подробности болезни и смерти Кокорекина, а также дальнейших заражений также излагаются иначе: не упоминается ни визит к любовнице, указан иной ход и болезни, и диагностики (художник четыре дня лечился на дому, а госпитализирован был только за два дня до смерти; верный диагноз при вскрытии поставлен не был, он выяснился гораздо позже при исследовании других заразившихся)[3].
Всего во время данной вспышки в Москве от Кокорекина заразилось 19 человек (7 родственников, 9 человек персонала и 3 пациента больницы, в которую он был госпитализирован с нераспознанной оспой). От них заразились ещё 23 человека и от последних ― ещё трое. 3 из 46 заразившихся скончались[4].»
Как видим, разные «источники» показывают канву сюжета очень неодинаково.
В одном из постов «Живого Журнала» (ссылка - https://motherware.livejournal.com/114972.html )я нашёл информацию, добавляющую черноты в картину ситуации:
«Художник Кокорекин, обласканный деятель советской богемы, слетал в 1959 году в Индию, где лично поучаствовал в ритуале сожжения умершего от оспы брамина, сделав рисунки. И даже приобрёл на подарки кое-какие вещи с распродажи имущества покойника.
Вообще-то выезжающим из СССР в Индию были положены прививки от чёрной оспы, но Кокорекин сумел достать поддельную справку о вакцинации.
Вернувшись из Индии в Москву, плотно пообщался с любовницей, а позже — с женой, раздавая подарки, но вскоре заболел и умер с диагнозом грипп. Так вирус чёрной оспы начал стремительно расползаться по городу — как видите, с тех пор степень ответственности отдельных представителей творческой элиты не особенно изменилась.» Этот пост, кстати, свежий, 2020 года, апрельский. Отмечу, что пост написан образным и чётким языком, воспринимается легко и очень, очень информативен. Под постом уже собрано больше шести страниц комментариев – весьма приятный показатель.
Достаточно исчерпывающе раскрывает ситуацию статья Википедии, размещённая по ссылке:
В ней есть практически всё, что есть в фильме.
Фильм, кстати, двухсерийный. Телевизионный формат требует, чтобы каждая серия по длительности не выходила за «рамки» сорока минут, потому первая серия фильма – 36 минут, вторая – тридцать две минуты.
Фильм, отмечу, чёрно-белый. И это сразу ориентирует зрителя на то, что показанное будет изрядно документальным.

Сегодня картины советской Москвы смотрятся как репортаж с другой планеты: машин на улицах столицы мало, люди одеты неброско, однообразно, ведут себя достаточно стандартно, неспешно, неторопливо. Нет стремления «успеть любой ценой», нет потоков пешеходов на тротуарах, сквозь которые часто невозможно пройти, нет толп людей на пешеходных переходах. Маршрутные троллейбусы и автобусы – полупустые.
Обычный уличный гомон разрывает сирена автомашины «скорой помощи» - и сразу показаны люди в «противоэпидемических» костюмах.

Милиция оперативно перекрывает улицы. Машина «скорой» везёт гроб, по виду – цинковый, что ещё больше нагнетает остроту ситуации. Вокруг гроба – эскорт из людей в тех же противоэпидемических костюмах. Спецмашина возглавляет короткую колонну из трёх машин – «буханки» и ещё одного «универсала».
Колонна направляется, как мне показалось, к крематорию, расположенному в ограждённой забором зоне.

Следом появляется машина, за рулём которой – молодой человек, а рядом с ним – пожилая женщина.
Никаких пояснений, никакого закадрового дикторского текста, ничего – только звуки города и машин, никакого привычного для нас нынешних музыкального «сопровождения». Почти чистая документалистика, хотя в документальном фильме применяются «титры» – надписи, которые многие моменты показываемого на экране весьма скупо, но поясняют.

Женщина бежит – и довольно быстро – через кладбище. Теперь ясно – она бежит к крематорию, но – к другому его входу. Оказывается, в том цинковом гробу был её муж – она сама об этом говорит, причём довольно спокойно и приглушённо.
Я смотрел фильм не закапываясь предварительно в Интернет и потому мне только потом стало ясно, что это была жена художника Кокорина и её сопровождал его сын.
Таким образом, вся предыстория – прилёт художника в Союз, проход таможенного контроля, пребывание у любовницы, пребывание у жены, распределение подарков по магазинам и по знакомым людям – всё осталось «за кадром».
Затем показано, как к неким Колесниковым домой приезжает бригада людей в «противоэпидемических» костюмах.

Меня удивило то, как спокойно и «роботизированно» отреагировал на появление такой нестандартной компании жилец этого дома – мужчина, случайно оказавшийся в этот момент у подъезда – как будто он каждый день видит людей облачённых в полускафандры. И я впервые подумал, что это – не игровой, не художественный фильм. Этот чел вполне мог быть сотрудником органов, хотя на первый взгляд он не напоминал ничем «человека в сером».
Потом вся эта «команда в полускафандрах» численностью больше пяти «тел» показывает всю свою беспомощность. Я скажу больше – непрофессионализм. Вместо того, чтобы вскрыть дверь и провести санобработку квартиры как полагается, вся бригада топчется перед дверью. Хотя основания для такого визита, как я сразу понял, у эпидемиологов были железобетонные. И потому всё «славословие» о том, что операция по «блокированию» вспышки натуральной оспы была проведена фантастически полно, качественно, точно и предельно правильно для меня рушится в один момент. И – перестаёт представлять хоть какую-то ценность.

В нормативе такая бригада должна была в данном случае самостоятельно, поскольку нельзя рисковать приглашённым слесарем – вскрыть квартирную дверь и – выполнить полагающиеся работы в пределах квартиры. Всего этого в фильме не показано, а значит такие работы проведены не были. Или были проведены «за кадром», с изрядным запозданием.
Для сравнения – на подъездной двери своего дома я сегодня обнаружил объявление с информацией о проведении дезинфекции лестничных клеток, лифта, почтовых ящиков и всего «общедоступного общедомового» имущества, за исключением, ясное дело, внутренностей квартир. На самом же деле, как мне пояснили соседи, никто никакой дезинфекции не проводил, а всего лишь прошёл по двору молодой человек и повесил на подъездные двери это объявление. И всё. И это – при почти тотальном жёстком карантинном режиме, вызванном угрозой коронавируса.
Молодой человек молча и неспешно отводит женщину от ворот крематория. А на заднем плане дворничиха подметает дорогу – поздняя осень, листопад, слякоть.
Эта дворничиха очень напоминает робота, который абсолютно не реагирует на происходящее у ворот столь «напряжного» заведения. Нервы у «эксперта по чистоте», вероятнее всего – поистине стальные.
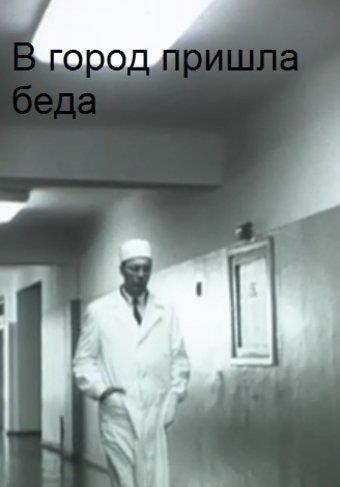
Врач – по всей вероятности инфекционной больницы – звонит с поста медсестры своей жене, сообщает, что скоро домой не вернётся – много работы. И при этом делает сразу несколько ошибок – отчётливо говорит о «серьёзных неприятностях» и заявляет, что «потом расскажет». Так что вопрос о секретности мероприятия – той самой «молниеносной» операции – отпадает сам собой. Никакой секретности после такого заявления быть не может в принципе. Правило «Не болтай у телефона…» этому врачу неведомо.
Медсестра принимает телефонный звонок, передаёт трубку задержавшемуся на посту врачу и тот узнаёт, что заболел некий доктор.
Врач отдаёт распоряжение изолировать больного, после чего сообщает медсестре, что поехал на дачу к какому-то, вероятно очень знающему человеку – называет весьма невнятно его фамилию.
Ясно, что ни о каком старичке-знатоке, вдруг явившемся к патологоанатому речи в фильме не идёт – сюжет построен на недокументальных данных, а на фантазии сценариста, что для документального и даже учебного фильма, ясное дело, недопустимо.
Показан приезд этого врача на дачу, показан разговор с этим знающим человеком – по виду обычным земским доктором.

Старичок-доктор пожелал принять непосредственное участие в решении «очередной медицинской проблемы».

Показано, как отдыхают взрослые серьёзные люди – танцуют и пьют. Большая квартира, радиола. Приглушённый свет.

Женщине становится плохо и один молодой человек собрался звонить в скорую помощь. Действует он правильно, на полном автомате, но… Эта женщина молчит о том, почему ей плохо. А ведь она-то знает, почему. Знает – и молчит.

А старичок-профессор уже облачается в полный противоэпидемический костюм и приступает к выполнению своих врачебно-служебных обязанностей – осматривает того самого заболевшего врача. Пациент говорит, что он «ошибся в диагнозе», на что профессор отвечает «это трудно сказать». Ясное дело, успокаивает пациента, но как-то очень размеренно, спокойно, роботизированно и – неестественно.

Жена умершего художника тяжело переживает смерть мужа. И даже присутствие рядом взрослого сына ей не особо помогает успокоиться. Женщина предлагает сыну уехать. Скорее всего – уехать из Москвы. Куда подальше. Обычное решение, обычное желание.

Старичок-профессор, ознакомившись с меддокументацией, сразу заявляет, что причина всех бед – пурпурная оспа. Вокруг знатока – три человека, все дипломированные врачи. И все готовы дать разные диагнозы – вплоть до чумы. Причём эти три человека – не вчерашние студенты, а медики, имеющие значительный и длительный профильный врачебный опыт.
И никто из них не опознал оспу сразу. Понадеялись на анализы, которые, отмечу, должны были дать результат не менее чем через сутки. И это – конец пятидесятых годов двадцатого столетия. Оспа была задушена – ну, почти задушена – в тридцатые годы. За тридцать лет выросли поколения медиков, понятия не имеющих об этом заболевании, его симптомах, диагностике, течении, лечении.
Интересно, как же учили медиков – инфекционистов и эпидемиологов в СССР, что они не знали элементарных болезней, свирепствовавших в недалёком и отдалённом прошлом? Чума, оспа, тиф. И ведь это – далеко не полный, весьма обзорный перечень.
Я могу ещё понять врачей, не специализированных на инфекциях и эпидемиях, они могли и не влезать в такие детали, но «спецы»… И ладно бы речь шла о болезнях, которые убивали десятки и сотни людей, но тиф, чума, оспа – они убивали сотни тысяч и миллионы. По степени летальности они – безусловные лидеры. А значит, профильные врачи обязаны были в любое время дня и ночи безошибочно опознать эти болезни и принять в самом срочном порядке эффективные меры противодействия. А тут – трое взрослых людей, врачи – и все покорно и послушно, а главное – абсолютно спокойно – от киберов не отличишь – ждут «результатов анализов». А своими «башками» думать категорически отказываются. «Вот анализ будет, анализ нас рассудит».
Из-за того, что Кокорин выведен в сценарии как Колесников, у меня неоднократно возникла путаница с восприятием последовательности событий: я считал, что Колесников – это тот врач, который умирал в одном из боксов инфекционной больницы.
Вот и ещё одно доказательство «стремления усидеть на нескольких стульях»: фильм не игровой, но до документального не дотягивает категорически, а в важных моментах – сплошная путаница. Многие сюжетные линии – обкромсаны, иначе даже и сказать не смогу.
Хоть и не чувствуется цензорских ножниц слишком явно, но тогда сценарий писался человеком, находившимся, как минимум, «под изрядным градусом» - в здравом уме и твёрдой памяти такой маловразумительный винегрет написать трудно.
Может быть и поэтому фильм не произвёл должного впечатления на зрителей и на худсоветы. Посчитали его заслуживающим статуса «учебного», но и там ведь документальность должна быть железобетонной, а тут идентификация страдает «по полной программе».

А дальше следует сцена, которая, на мой взгляд, приемлема и для художественного, и для документального вариантов фильма. Старик-профессор требует от коллег принять решительные и серьёзные меры. Более молодой, но уже достаточно «статусный» врач указывает, что «сегодня воскресенье» и как-то не с руки пороть горячку. Ещё более молодой врач как на экзамене перечисляет категории людей, которые должны быть – как того требует теория медицины – взяты под карантин. И получается, что этот дедок-профессор – лучший в своём деле спец, а все остальные должны положить свои дипломы врачей на стол и забыть о том, что они имеют право лечить пациентов.
Дедок помчался в Кремль, к министру, а практически – поехал в Совет Министров, то есть «на самый верх».

Встречается дедок-профессор с министром – и вынужден читать ему мини-лекцию о том, что надобно сделать немедленно и даже очень быстро в случае выявления больного «пурпурной» оспой, которая распространяется так же быстро, как чума.
Я понимаю и знаю, что министр здравоохранения страны – прежде всего администратор. Но мне всё же представляется, что медицинское образование он обязан иметь. Для того, чтобы не заставлять «полевых» медиков тратить время на чтение вот таких вот мини-лекций по самым разным поводам. Одного словосочетания «натуральная оспа», произнесённого вслух таким профи, как старичок-профессор, для министра должно быть достаточно, чтобы отдать приказ о выполнении строго определённого плана действий.

А министр с «коллегами» «навесили» на профессора административную работу – заставили возглавить комиссию, которая и будет руководить ликвидацией проблемы.

И самое показательно – явно признали, что никого компетентнее этого старика в огромной стране, растянувшейся на одиннадцать часовых поясов, оказывается не существует. И это - в стране, где вроде бы «незаменимых людей – нет». Вот и очередное противоречие, которое в дальнейшем резко снизит как скорость, так и эффективность реагирования на изменение опаснейшей ситуации. Так что ни о какой моментальности и сверхэффективности реагирования говорить не приходится – и в фильме это предельно полно и точно показано.
Профессор вынужден совмещать врачебную деятельность с сидением на всяческих заседаниях и совещаниях. Но главное – он согласился. Да, по ряду уважительных причин, понимаю, но… У него что, нет учеников, достойных заняться «администрированием»? Получается, что нет. И получается, что этот профессор виновен в том, что более молодые врачи профильных специальностей не умеют «делать стойку» на малейшие признаки опаснейших инфекций. А это уже – основания для возникновения многих проблем.

Большое место в фильме занимает эпизод о бегстве из Москвы вдовы художника и её сына. Затянутые сцены, снятые «из машины» с показом салона, сцена на автозаправке, сцена приезда в некую гостиницу – всё это показывает на мой взгляд «умирание» созидательно-творческой активности в стране Советов. Неспешная езда, неспешные разговоры, медленные движения – и это всё – в опаснейшей ситуации.
Понятно беспокойство сына за мать, понятна помощь сына матери, но не понимать, что именно эти двое людей – первые контактёры – и самые «плотные» притом – с погибшим от оспы художником – это уже диагноз и обвинительный приговор системе здравоохранения Союза ССР.
Этих двоих людей должны были ловить и изолировать в самую первую очередь, а как мы видели – в фильме пока показано только создание некоей комиссии «по реагированию». В медицинской документации, которую старик-профессор, безусловно, изучил, должны быть данные о Кокорине и о его жене и даже о сыне. Если художник умер, то его жена и сын ещё живы и они, безусловно, инфицированы. Две бригады эпидемиологов и инфекционистов в полускафандрах – и не потребовалось бы привлекать милицию к розыску и преследованию вдовы и сына художника.
Но… «колёса Системы» прокручивались уже в изрядно замедленном режиме, реагирование даже на чрезвычайную ситуацию и её «детали» запаздывало и имело все шансы в дальнейшем запоздать ещё больше.
Мне сложно сопоставлять Кокорина и поименованного в фильме Колесникова как одно и то же лицо.
Тем временем «машина реагирования» медленно, крайне неспешно начинает действовать. Врачи прибыли в аэропорт и потребовали предоставить списки пассажиров, летевших одним рейсом с Колесниковым-Кокориным. Автор сценария к тому же превратил Кокорина не только в Колесникова, но и сделал из него не художника-графика, а архитектора. То есть фильм всё больше перестаёт быть и документальным, и даже учебным.
Меня лично удивила продемонстрированная в фильме доверчивость советских людей – оперный певец, живущий в весьма крутом по советским меркам доме, безропотно одевается и идёт следом за облачёнными в медицинские халаты мужчиной и женщиной. Никаких документов, удостоверяющих принадлежность к спецмедслужбам гости певца не предъявляли, более того – действовали нахраписто и уверенно. Выглядит сегодня как чистая фантастика. Конечно, пятьдесят девятый – это не тридцать седьмой, но… Дисциплинированность и покорность людей неприятно изумляют.

Разворот самолёта международного рейса – сейчас, конечно же, не впечатляет. Но, наверное, и для времён СССР это тоже не было чем-то исключительным. Учитывая тот же 1937 год и его уроки.

Заболевший врач умирает – его не смогли спасти. И только сейчас взялись разыскивать сбежавших вдову и сына художника-архитектора. На этом первая серия фильма завершается.

Иностранца сняли с возвращённого самолёта и на медтранспорте отправили в карантин. Со всеми, кто летел вместе с ним. И заперли с первыми заболевшими в одной комнате.
В гостиничном вестибюле – полно народу, но никто – ни персонал, ни прибывшие для поселения не обращают внимания на женщину, которой очень плохо. Всем, что называется «пофиг». А ведь если бы обратили внимание – не пришлось бы, возможно, изолировать всех поселенцев достаточно большой гостиницы.
Иностранец разбивает стекло бокса и прорывается на приём к старичку-профессору.

Профессор агитирует иностранца, убеждает его в способности «советского строя» и демонстрирует, как утверждает иностранец, «диктатуру врачей».
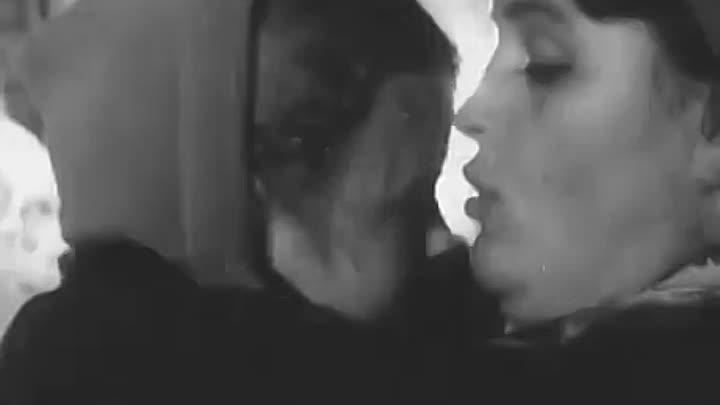
А гостиницу берут в осаду экипажи медмашин – прибыли эпидемиологи и вирусологи. Всех поселенцев, включая детей – в карантин. Только потому, что всем было начхать на плохо выглядевшую женщину.

Людей в карантине всё больше. Врачи используют «синтетический» гамма-глобулин.
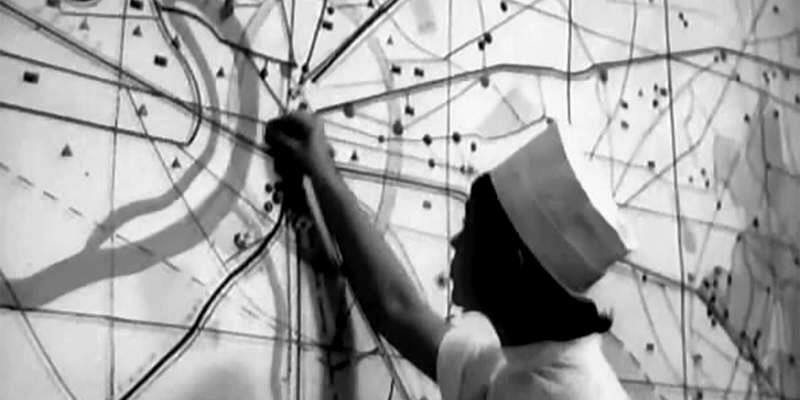
Началось массированное оспопрививание.

И сразу выяснилось, что для Москвы не хватает доз вакцины. Какое решение принимает старичок-профессор и его комиссия? Обычное и точное – ограбить «институты вакцины» на местах, забрать у них все наличные дозы вакцины.
Получается, что в Москве изначально не существовало должного запаса доз вакцины. А если бы заболевшие «расползлись» по стране? Если бы они инфицировали сотни, тысячи людей на местах? Получается, что этих уже имеющихся доз не хватило бы в принципе. А для производства новых доз потребовалось бы время, которого, закономерно – не было.
Неготовность медслужбы страны к действиям в условиях ЧС хорошо продемонстрировала затянутая сцена в цирке, где укротительница медведей тоже оказалась инфицирована и её должны были забрать в карантин. Получается, что имея на руках полную информацию о людях, которые были возможно инфицированы, спецслужбы страны оказались не в состоянии быстро изолировать всех потенциальных пациентов.
И при этом – правительственные телеграммы, обязывающие директоров республиканских институтов вакцин передать все запасы противооспенных вакцин в Москву. Фактически, все силы были брошены для спасения столицы, а страна – оголена. Достаточно было одной–двух вспышек в какой-нибудь республике – и «реверс» потребует не минут – часов, а то и суток. Вот и рушится легенда об эффективности действий профильных служб в такой ЧС.
Аэропорты Москвы закрыты – туман. Но самолёт с вакциной пробился. Как обычно. Хорошо, что не дали многим людям улететь из столицы – иначе могли выпустить нескольких инфицированных, ведь в фильме показана сцена, когда выяснилось, что не все пациенты были помещены в карантин – недосмотрели, не учли, не увидели. Странно, что никто из пассажиров, скопившихся в аэровокзале, не увидел садящийся самолёт. Думаю, здесь сюжет намеренно упрощён – для поддержания жизнеспособности легенды о всемогуществе советской системы управления и реагирования.
Как можно было объявлять повальную вакцинацию, не имея всего количества доз? Да, можно начать, а потом подвезут, но ведь это – не узконаправленная вакцинация, а повальная. Ясно же, что запас в Москве будет исчерпан почти мгновенно. И всё же власти столицы пошли на заведомую авантюру. А также – на нарушение лётных норм и правил.
Жених и невеста неудачно пытаются избежать помещения в карантин.

Старик-профессор возвращается на дачу – экстренные меры уже не нужны, потому можно и расслабиться. К нему приезжает выздоровевший иностранец. А профессор заявляет, что спецсредства для лечения оспы до сих пор нет, но при этом соглашается, что необходимо ликвидировать оспу на всём земном шаре.
На этом фильм фактически завершается. Спокойствие и стабильность жизни обитателей огромного столичного города сохранены, но…
Всё же фильм не получился ни чисто документальным, ни чисто игровым и художественным. И к тому же – сохранил на многие годы свидетельства несовершенства служб огромной страны, ответственных за предупреждение и преодоление критических ситуаций.
Напомню, что фильм снят в 1966 году, прошло больше сорока лет, а как видно, до сих пор нет никаких гибких и эффективных механизмов борьбы с опаснейшими инфекциями, кроме как карантин и изоляция.
Разница разве что только в масштабах – в 1966 году вряд ли кто мог себе представить столичный город на полном карантине под режимом самоизоляции жителей. А сейчас это воспринимается как сугубая реальность. К сожалению. Которая, к тому же, не указывает на возросшую способность людей быстро и эффективно бороться с угрозами и опасностями.