Иван Ефремов "Звёздные корабли". Так ли всё просто и понятно в этой повести?
Автор: Дмитрий БочарникПовесть Ивана Антоновича Ефремова «Звёздные корабли» на современного читателя, думается, может произвести странное впечатление. Во-первых она – короткая. Три главы. Всего три главы, а не тридцать и не сорок. Да, повесть – жанр малоформатный, это ясно, но не три же главы! А вот в этой повести именно три.
И – полно недосказанностей. Настолько много недосказанностей, что далеко не всем читателям эта повесть будет понятна. Или – придётся по душе.
В «отзовике» в Сети ( https://otzovik.com/reviews/kniga_zvezdnie_korabli-ivan_efremov/ ) есть несколько отзывов на эту повесть. Отзывов, написанных нашими современниками. Разными людьми.
Эти отзывы… как бы помягче сказать, подозрительно одинаковы. По сути, не по форме. В этих отзывах нет главного, что бы свидетельствовало об их искренности – нет указаний на недостатки повести. А если даже читатели не указывают на недостатки текста, собственно, для них предназначенного, то это ещё совсем не значит, что повесть – высококлассная и понятная «до донышка».
Вполне возможно, что повесть «Звёздные корабли» - своеобразный Рубикон для многих наших современников – не признающих рассказы и повести и уже не могущих нормально и целостно воспринимать романы и эпопеи.
Согласно википедийной статье о И.А.Ефремове ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ), повесть «Звёздные корабли» относится – хронологически – ко временам написания второго цикла рассказов. Так что, если убрать деление на главы, то «Звёздные корабли» - это фактически не повесть, а рассказ, пусть и достаточно большой по объёму. Википедийная статья указывает, что повесть была издана аж в 1948 году, хотя написана – в 1944. В годы Великой Отечественной войны И.Ефремов создаёт первые свои масштабные произведения – переходит от рассказов к повестям, а затем, уже в послевоенное время – к романам.
Согласно википедийной статье о «Звёздных кораблях» ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8 ), «По утверждению И. Ефремова, повесть стала для него как для писателя новым этапом[4]. До этого он писал приключенческие рассказы, а здесь затрагивались вопросы творческого труда учёного, и пришлось более серьёзно размышлять над психологией героев.
Главная идея Ефремова — идея множественности очагов разума во Вселенной и сходства тех путей, по которым идёт эволюция на различных планетах. Он утверждает, что разумное существо неизбежно будет гуманоидом. Эти идеи он обсуждал с Алексеем Быстровым в письмах и, во многом, облик пришельца был придуман Быстровым[6], который занимался реконструкцией облика ископаемых животных по костным останкам.
В повести соединились две темы, которые интересовали Ефремова: палеонтология и космос.
Академик Ю. Н. Денисюк писал, что эта повесть побудила его в 1957 году начать работы по регистрации объёмных изображений с помощью специальных фотоматериалов; это привело к открытию трёхмерной голографии.»
Думаю, уместно будет отметить, что близкие сюжеты присутствуют в рассказе И.Ефремова «Тень минувшего» (википедийная статья – очень обзорная, кстати, находится в Сети по ссылке - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE)
Обзорно сюжет «Звёздных кораблей» таков (цитирую по профильной википедийной статье):
«Палеонтолог Алексей Петрович Шатров узнаёт, что его китайский коллега нашёл череп динозавра с отверстием, напоминающим пулевое ранение. Динозавр жил 70 миллионов лет назад, человека тогда не было, можно сделать одно предположение: в то далёкое время Землю посетили пришельцы. Однако как они могли преодолеть огромное расстояние? Шатров узнаёт и о другом открытии: его бывший ученик, молодой советский астроном, погибший на войне, рассчитал траекторию движения Солнечной системы, и оказалось, что 70 миллионов лет назад Солнечная система приблизилась к другим звёздным системам Галактики настолько, что перелёт стал вполне реален. Значит, в это время и прилетели пришельцы, чему свидетельство — череп динозавра.
Шатров приходит к своему другу, палеонтологу и геологу Илье Андреевичу Давыдову. Давыдов уже много лет думает над другой загадкой: он исследовал в Средней Азии огромные кладбища динозавров — множество животных погибло одномоментно по непонятной причине. Скорее всего, в результате землетрясения из-под земли вырывалась наружу в виде мощного излучения энергия атомных реакций; это и убило динозавров. Возможно, пришельцы (как решили двое учёных) могли прилетать на Землю для разведки источников ядерного топлива! На них напали динозавры, и пришельцам пришлось защищаться. Давыдов, раскапывая это кладбище, также среди костей динозавров находит загадочный артефакт, вначале принятый за панцирь древней черепахи…»
Это – именно обзорный взгляд, столь любимое нашими современниками «краткое содержание» художественного текста. Я уверен, что для каждого читателя эта повесть будет в значительной мере уникальным открытием. Без всяких там кавычек, которые - вроде бы - и напрашиваются, и подразумеваются.
Потому, закончив работу над блогопостом по «Туманности Андромеды» и думая – в очередной раз – как подступиться к «Часу Быка», я обратил своё внимание на то, что «мостом» между этими двумя романами и является небольшая повесть «Звёздные корабли». Хотя хронологически… «Звёздные корабли» написаны раньше, в 1943-1944 годах, в то время как «Туманность Андромеды» - в 1955, а «Час Быка» - аж в 1963.
Почему мостом? Да потому что И.Ефремова отличает удивительное и достойное всяческого одобрения и уважения постоянство в формулировании и отстаивании своей позиции.
Как учёный-палеонтолог, привыкший и способный спокойно и безэмоционально воспринимать отрезки времени в тысячи и десятки тысяч лет, И.Ефремов гораздо менее склонен превозносить возможности и способности как землян, так и инопланетян любого размера и формата. И именно отсутствие желания преувеличивать мощь инопланетян, равно как и мощь землян и отпугнуло, возможно, как издателей с цензорами, так и читателей от глубинного восприятия повести.
Несмотря на весь научно-фантастический антураж люди и инопланетяне в «Звёздных кораблях» выглядят и действуют уж слишком обыденно и рутинно.
Взгляните на несколько обложек печатных изданий повести:
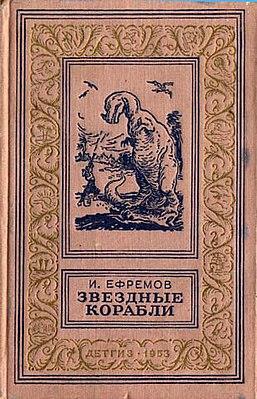
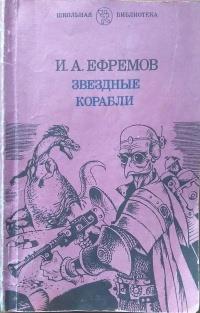
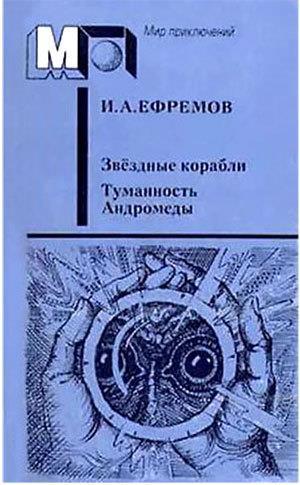
И на иллюстрацию к тексту самой повести:

Интересно, на мой взгляд, то, что уже в аннотации фактически раскрывается – в очень значительной мере – сама суть текста. Настолько полно раскрывается, что читать сам текст повести и не хочется. Судите сами:
«Сюжет повести – находка кости динозавра с загадочной пулевой (лучевой) пробоиной, затем – черепа человекоподобного инопланетянина и его "портрета", – послужил отправной точкой главного философского построения Ефремова: идеи множественности очагов разума во Вселенной, сходства путей, по которым идет эволюция на различных планетах (с неизбежностью обеспечивая в результате общий физический облик и психологическую конструкцию – "гуманоидность" – для всех носителей разума), и ее неизбежной перспективы – "Великого Кольца" цивилизаций.»
Всё. Сам текст повести после такой исчерпывающей аннотации и не нуждается в прочтении. Всё ясно, понятно и… упрощённо.
Повесть, напомню, состоит всего лишь из трёх глав. Да, имеющих собственные названия, отмечу, но… Шестьдесят две страницы. Это для наших современников – очень мало. За день приходится перелопачивать сотни страниц всякой инфы. А тут – всего шестьдесят две страницы. И как по мне, «маловато будет».
Именно потому мне эта повесть показалась сшитой из «кусков». Между которыми – лакуны. Нуждающиеся, на мой опять таки взгляд, в заполнении. А заполнять – нечем.
Если же перейти к самому тексту повести, то сразу, уверен, следует отметить, что И.Ефремов обходится без вступления – сразу помещает читателя в обстановку, которая пусть и схематично, но определяет неизбежность лакун.
Первая глава – «У порога открытия» рассказывает о том, как палеонтолог Шатров приходит к убеждению, что Землю в глубокой древности – ещё до появления человека – посещали разумные органики. Два основания этого убеждения: первое – находка, сделанная китайским коллегой Шатрова – кость динозавра с «пулевым» отверстием и второе – рукопись ученика Шатрова, доказывающая, что Земля несколько миллионов лет тому назад была к другим звёздным системам гораздо ближе, чем сейчас. А значит, разумные органики могли достаточно просто и легко преодолеть огромные расстояния между своей материнской планетой и Землёй.
Кость динозавра с пулевым отверстием у Шатрова физически уже есть – коллега прислал посылку. А вот за тетрадью с рукописью ученика… пришлось походить. И найти тот танк, в котором автор рукописи и погиб. А тетрадь… Тетрадь – чудом сохранилась.
Для полноты картины И.Ефремов даёт читателю возможность побывать в настоящей обсерватории и глазами Шатрова увидеть, даже почувствовать, насколько же велика и одновременно – холодна и страшна Вселенная, в которой даже яркие звёзды выглядят слабо светящимися «точками» на фоне черноты и огромных расстояний.
Профессор Шатров ожидает в гости профессора Давыдова. А тот попал под удары стихии, увидел и почувствовал едва ли не одну из самых страшных природных сил – гигантские волны, способные утопить почти любой морской корабль и нанести огромные разрушения прибрежным селениям.
Говоря о лекции, прочитанной профессором морякам, И.Ефремов плавно подводит читателя к пониманию того, что много-много столетий тому назад Земля, материнская планета человечества была ещё более горячей, неуёмной и опасной. Человек же появился уже тогда, когда планета, образно говоря, «перебесилась» и немного, самую малость, успокоилась, только изредка позволяя себе напомнить о былых временах хотя бы вот такими гигантскими, опаснейшими волнами, против ударов которых мало что и мало кто сможет устоять.
Во второй главе повести, озаглавленной «Звёздные пришельцы», Шатров наконец-то встречается с Давыдовым. Разговор, конечно же, заходит о той кости, которая по непонятным, а точнее – невероятным причинам обзавелась «пулевым» отверстием.
Людям-человекам лестно думать о том, что видите ли только они могут делать в костях такие вот ровненькие и аккуратненькие отверстия. Могут, потому что постоянно воюют между собой с помощью и с использованием всяких смертоносных орудий и технологий.
На другую чашу весов люди, оказывается, могут поставить только одну альтернативу – пришельцев из космоса. И.Ефремов на мой взгляд, весьма искусственно «замыкает» повествование на этой альтернативной версии.
Процитирую выдержку из википедийной статьи:
«Исходной точкой для сюжета о черепе динозавра с пулевым отверстием, по предположению Петра Чудинова, был череп вымершего бизона с отверстием, напоминавшим пулевое, который хранился в Палеонтологическом музее в Москве[1]. Уже после публикации повести, в конце 1950-х годов териолог Н. К. Верещагин выяснил, что причина отверстия проста: это были следы болезненных свищей, вызванные паразитическими червями либо личинками оводов.»
Вот таким образом. Повесть из трёх небольших по размеру, да и по содержанию глав была написана в 1943-1944 годах, опубликована в 1948 и всего через несколько лет была научно установлена причина появления этого отверстия. Я подчеркну – научно, поскольку в профессоре Давыдове, как утверждает та же википедийная профильная статья, И.Ефремов вывел самого себя.
Можно сказать - поторопился И.Ефремов с выводами. Напомню также, что как палеонтолог, И.Ефремов снискал себе – во многом заслуженно – славу почти непогрешимого гуру, а вот в других областях, как, думается, доказывает этот факт, И.Ефремов был весьма ограничен и в познаниях и в представлениях. Что, конечно же, самым негативным образом сказалось на содержании его художественных текстов, уже перешагивавших рамки рассказов и готовящихся примерить рамки романов.
И.Ефремов достаточно подробно описывает, как два профессора восторгаются, восклицают, осматривая, рассматривая – но не исследуя собственными руками не одну, а две кости, пронзённые неведомым орудием. Вполне возможно – оружием.
Меня очень насторожило именно это обстоятельство – не исследуют. Два профессора, два маститых учёных, известных, признанных, пускают дело на эмоции. Но более того – на эмоции поддался, не поверил себе как учёному, способному холодно логически рассуждать, их китайский коллега. Тот самый, кто прислал профессорам эти кости с отверстиями. Он не поверил себе. Самому себе не поверил, пожелал получить поддержку, а точнее – подтверждение.
Чему, спрашивается? Я, когда читал текст, эти абзацы, живоописующие разговор двух мужиков-профессоров, ждал описания шелеста страниц документов. Экспертизы, исследования, анализы.
Ничего этого я не прочёл в повести. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Одни только словеса профессоров, огульно подтягивающих под своё мнение то, что они видят и ощущают. Чем, спрашивается, видят? Глазами. Чем ощущают? Пальцами рук. Всё. Больше никакой аппаратуры у двух мужиков-профессоров нет. И не предвидится.
Я не хочу верить в то, что И.Ефремов держит читателей за дураков. Но… Даже художественное упрощение должно иметь обоснованные пределы. А здесь этих пределов – нет.
Хотя… Если вспомнить, что пенницилин и некоторые вакцины в сороковые-пятидесятые годы были невиданным прорывом, если вспомнить, что в палеонтологию шли очень немногие молодые люди, то… Бедность вроде бы маститых палеонтологов предстаёт совершенно в ином свете. Именно бедность и именно материальная, аппаратная, исследовательская и даже научная бедность.
Вместо «пятисотлистовки» с результатами всевозможных анализов и экспертиз два мужика-профессора руководствуются тем, что есть в наличии у обычного, неотягощённого научными степенями, званиями, системным профильным образованием человека.
В дальнейшем И.Ефремов буквально «за уши» тащит читателя к уже запрограммированным собственным авторским выводам. А это «заушничество» я не считаю признаком мощи и совершенства автора текста.
Два маститых профессора тупо воспроизводят запрограммированный текст – катят вывод за выводом как по рельсам. И эта «рельсовость» - неестественна. Даже при том, что со стороны может показаться, что два мужика-профессора «рехнулись». Нет естественности, доказательности в их рассуждениях. Нету.
Я охотно допускаю, что за пятьдесят лет второй половины двадцатого столетия науки сделали большой рывок вперёд. Но этот рывок чем-то должен был быть железобетонно обусловлен. И среди этих обоснований нет места эмоциям и чувствам, описанным И.Ефремовым в «Звёздных кораблях».
Если это - повесть об учёных, о научном поиске, о том, что всегда отличало науку от обывательского восприятия, то где анализ, где стопроцентные, логически обоснованные доказательства предъявляемых выводов? Нет, всё это остаётся «за кадром».
На мой взгляд здесь нет даже умелого популяризаторства, того самого, которое способно побудить молодых людей косяками пойти в палеонтологию, в археологию, в другие вроде бы непионерные науки.
А самое главное – И.Ефремов показывает удивительную, но в то же время непозволительную медлительность научных работников. У профессора на столе – гранки, диссертация, в приёмной – препаратор, которому тоже надо уделить внимание. И всё это должен вроде бы «разгрести» уже летами не молодой профессор. Который сам же признаётся – не хочу цитировать – что «не тянет». Уже – «не тянет».
Вот самая главная проблема современной И.Ефремову – и не только И.Ефремову – науки: тот, кто что-то достиг в науке – уже быстро, крайне быстро, очень быстро приходит к пределу своих сил и возможностей. И банально резко перестаёт «тянуть». Перестаёт работать непрерывно, эффективно, высококачественно. Хотя вроде бы может слыть кабинетным схимником, запретившим себе едва ли не все радости жизни.
Давыдов даже побывал на месте, где было вскрыто крупное кладбище динозавров. Но… «втирая» молодёжи о важности избранной профессии и специальности – в том числе палеонтологии, конечно же, Давыдов опять таки не мыслит активно, разносторонне, остро.
И.Ефремов ещё раз доказывает, что учёный очень часто может быть крупным и крутым спецом в своей узкой области, но всё, что за пределами этой области – для конкретного учёного может быть даже очень «тёмным лесом».
Хотя… как мне предсталяется, сам факт вскрытия крупного кладбища динозавров заставил бы любого здравомыслящего учёного внимательнейшим образом просмотреть список самых невероятных причин такого скопления скелетов не самых маленьких представителей древнего животного мира планеты.
Ясное же дело, что динозавры не могут просто так без очень важных и и серьёзных причин скопиться на столь ограниченной площади. И.Ефремов показывает, насколько слаб и немощен Давыдов, который мыслит, не побоюсь этих слов – заскорузло и шаблонно, вещает как «репитер» и сам уже не верит во многое то, что сам же озвучивает.
Оказывается, для того, чтобы учёный «сошёл с рельсов» и сам стал думать нестандартно, ему нужен «волшебный» и очень существенный «пендель».
Как-то разрушающе влияет подобное «представление» на привычный для читателя образ «учёного», способного по своему положению «жреца науки» решать многие, недоступные для простых смертных людей вопросы и проблемы.
Описывая процесс обнаружения черепа «пришельца» И.Ефремов продолжает упорно, упрямо и топорно гнуть свою провальную, не побоюсь этого слова, линию. Он буквально «за уши» притягивает все мало-мальски подходящие для своей теории факты, начисто забыв о том, что он хотя и пишет художественный текст, должен, как его автор, придерживаться элементарных и общепринятых правил логики.
Результатом очередного раунда «притягивания за уши», выполненного И.Ефремовым, является «портрет» пришельца, реконструированный сначала по черепу, а затем - по изображению, вскрытому на полированной пластине.
Сами полюбуйтесь, посмотрите и решите, стоило ли затевать написание повести ради такого «брата по разуму»?

Я не считаю, что носитель разума обязан быть хотя бы отдалённо похож именно на человека. Это, с моей точки зрения – примитивизм и упрощенчество.
В конце двадцатого столетия носителями разума были признаны дельфины, которые ни в коей мере внешне не походят на «гомо-сапиенса». Собаки и кошки, живущие рядом с людьми тоже постепенно, пусть даже и очень медленно, признаются весьма разумными существами. А И.Ефремов, палеонтолог с мировым именем, занимается форменным «притягиванием за уши», а не научно-логическим системным обоснованием своей позиции.
«Странное, но несомненно человеческое лицо». Я не буду цитировать все «места» повести, которые мог бы зацитировать. Не вижу в этом необходимости. Но… Так смешивать человека – землянина и «небесную бестию»… Это – не научный подход. И не подход, применимый для популяризации науки. Это именно «притягивание за уши», коим, уверен, И.Ефремов страдал системно, а не эпизодически. И уж точно - не случайно.
И.Ефремов многое, очень многое преступно упрощает. Сначала он перечисляет гафний, тантал, индий – химические элементы, которыми даже его современники не обладали в качестве обиходных вещей, а потом… Потом, невзирая на объективные различия между внешностью гомо-сапиенса и «бестии целестис» эмоционально, чувственно, но внелогично и вненаучно настаивает на том, что это конкретное существо – носитель высокоразвитого разума. Настаивает, опираясь только на эмоции и чувства, что я считаю недостойным для гуру палеонтологической науки. Доказательства, результаты анализа, результаты исследований – всё остаётся за кадром. А вперёд И.Ефремов выставляет только эмоции и чувства.
И «равняет» по этим эмоциям и чувствам неведомых «бестий», которые явились на Землю в пору её ранней молодости в поисках мест концентрации радиоактивных материалов, фактически – ядерного топлива.
Явились по-быстрому, сэкономив себе слишком много ресурсов и материалов.
И да, поторопившись. Так же поторопившись, как поторопились многие персонажи и герои «Туманности Андромеды». А потом – поторопятся многие персонажи и герои «Часа быка».
Повесть обрывается – именно обрывается на слишком мажорной ноте. А могла бы быть спокойно завершена без этих агиток, лозунгов и призывов. Но – то ли И.Ефремов не захотел, то ли ему не дали, то ли повесть потому и была издана в 1948 году, а не в 1945, что подвергалась многократной авторской и цензорской правке.
Именно потому, что повесть «оборвана» у меня и не получается хоть как-то более-менее внятно финализировать свой отзыв. Не хочу пускаться в малообоснованные рассуждения и предположения.
Уф. Теперь можно приступить к чтению «Часа Быка». Этот текст – сложный, многоуровневый, тяжёлый - и физически и психически - для очень многих читателей.