Рецензия на повесть «Вероника Стейнбридж покидает зону безопасности»
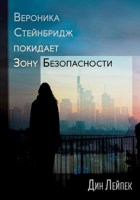
Когда читаешь уже третью книгу автора (а если считать трилогию про Дракона как три, то вообще пятую), невольно начинаешь искать сходства между всеми тремя женскими персонажами из книг - Элис из “ЭВПЛ”, Джоан из “Дракона” и Вероники из “Вероники”.
И находишь. Потому что все эти девушки отличаются одной четкой чертой - они не коммуницируют до конца. Они постоянно находятся в каком-то таком состоянии, когда любым словом боишься навредить, когда не можешь до конца довериться почти никому, даже таким персонажам, как лучшая подруга или мать. Когда все восприятие мира построено на каком-то хрупком, но на редкость чувствительном основании, где не говорят, но чувствуют, где человек словно постоянно находится на грани срыва.
Привычное мне состояние спокойствия и коммуникации полностью словами, когда не гадаешь все время, как не обидеть, не отпугнуть другого, а просто знаешь, что никуда он не денется, в книге отсутствует полностью. Собственно еще одна черта девушек Лейпек - почти полностью отсутствующее умение шутить и смеяться над собой. Шутят всегда мужчины, а девушки настолько остро ходят по грани, что уже не в состоянии ни шутить, ни самоиронизировать в чужом присутствии. От силы - осознавать безумие, творящееся в их головах или в мире вокруг них, порой достаточно отчужденно, что это может сойти за самоиронию. Самоиронию на грани истеричного срыва.
Вероника - девушка великого одиночества и тонкой творческой натуры. И хотя описывает автор мир, во многом не похожий на наш, этакая анти-утопия, мир, где многое пошло не так, в попытке сделать все правильно, Вероника настолько похожа на столь многих в нашем мире, что порой антураж даже не замечаешь. Она человек, который настолько привык, что ее никто и никогда не поймет, что даже крупицы этого понимания вызывают в ней удивление и бурю эмоций. Она чувствует, она пишет полотна, она проживает эту бурю часто и интенсивно, постоянно находясь в состоянии дикой нестабильности. Как человек на грани деппрессии или срыва, или кто-то с расстройством личности. Не бывает хороших дней. Есть только дни, которые неожиданно оказались лучше постоянной серой и отчаянной массы.
При этом Вероника отчаянно же компенсирует эту серость. Она не носит очки ВР, чтобы хоть как-то воспринимать реальность в полной мере. Хотя бы в цветах, хотя бы в освещении, не покрывая мир виртуальными материалами и паттернами. Она не принимает суппресивы (какие-то лекарства, подавляющие половые признаки, типа анти-гормонов), чтобы еще хоть что-то чувствовать, а не становиться стерильным существом с идеальной жизнью, в которой никогда и ничто не изменится. И когда ее настигают последствия гормонов - желание, без возможности его удовлетворить - она прибегает к разным мерам, чтобы вылить накопившеюся боль наружу, или же удержать ее всеми силами внутри. Для первого есть картины и крик, для второго наркотики и лекарства.
И вот это несчастное, творческое существо, выросшее в стерильном обществе, где почти уже никто по-настоящему не чувствует, увлекаясь чем-то виртуальным или принимая отсутствие стимулов как должное, вот это создание встречает человека извне. Который не родился в Зоне, который не стерильный, который “настоящий”. И типичном стиле Лейпек Вероника строит с ним отношения, похожие на фарфоровую вазу. Никто не доверяет друг другу до конца, никто не говорит, все не договаривают, оба боятся разбить произвольным словом хрупкий баланс. Постоянные разрывы. Незнание, когда будет следующая встреча, нужна ли она, не есть ли это все просто помрачение и безумие. Попытки уйти, с обоих сторон, неизменно кончающиеся чередой случайностей, которые выводят герояв на новый виток. И лишь намеки на телесную близость - до конца книги так и не стало понятно, к чему подвигло Веронику вино в тот вечер - к знакомству и разговорам, поцелую или же чему-то большему.
И пока Вероника разбирается со своими бесконечно тонкими, хрупкими, но от того не менее сильными чувствами, автор легкими набросками показывает нам мир Зоны. Мир, в котором дети больше не рождаются. Где все живут под суппрессивами и не испытывают сексуальное влечение вообще. Где детей выращивают в пробирках, а взрослые живут в однополых парах, иногда реальных партнеров, чаще друзей. В мире, где все ходят в группы по самоподдержке, выговариваясь “собратьям по несчастью”, чтобы не было срывов.
Автор подобрала отголоски настоящего и попыталась провести экстраполяцию. Что будет, если движение за права геев зайдет дальше, чем мы ожидаем? Что будет если вообще меньшинства решат построить свой город и жить по своим правилам, внушив друг другу, что весь вред от гетеросексуальных пар и устоев? Что будет, если движение ЗОЖ станет нормой?
И хотя сам мир Зоны вышел специфичным и вполне себе реальным, в него самого, в мир, в эту структуру и его проявления, вполне себе веришь, слабым звеном, на мой скромный взгляд, оказалась попытка объяснять, как этот мир возник. И хотя в мир-изоляцию я готова поверить легко - мы часто видим попытки тех, кого угнетают, уйти и построить свой собственный мир, на многих шкалах, от целых стран вроде США (если кто-нибудь помнит, как они изначально начинались с эмигрантов без средств и возможностей на родине) до небольших бложиков с ламповой атмосферой, но в то, что научное сообщество всерьез будет обсуждать гипотезу, построенную на подтасовке статистики уровня средней школы - в это я верю с трудом.
Да безусловно, скорее всего здесь играет роль реальная линия нынешних событий. Вся заварушка с БЛМ, попытки агрессивного меньшинства феминисток вообще отказать мужчинам в каких-либо правах, множество радикальных взглядов, которые разумным людям кажутся абсурдными. Но в книге это было подано не как группа радикалов, которая пришла к какому-то бредовому выводу, решила самоизолироваться и построила свой город под куполом. В книге это подано как какое-то государственное развитие. Как что-то, что государство признало реальностью.
И тут возникает очень острая, политическая тема. И нет, прошу, не разводите гей-срач в комментах, я все равно не приду отвечать, я и рецензию тут пишу предпоследнюю. Проблема в том, что есть разница между движением за права геев (именно права, а не приимущества над гетеро) и радикальными требованиями а-ля “убрать всех мужиков нафиг, пусть женщины правят миром”. Есть разница между попытками защитить людей и подтасовкой данных, чтобы убедить толпу хайполовцев в каких-то диких выводах. Есть разница между тем, что делается на государственном уровне в попытке оградить угнетенных, и то, как искажаются лучшие намерения в судах, когда судят за то, что кто-то посидел рядом с девочкой на диване. Безумие творится на уровне простых людей, на уровне интернетной травли и судебных разбирательств, а законы принимают выше. И если во многое я готова поверить, момент с “от гетеросексуальных отношений все зло” резко убил во мне доверие в данное развитие. Не так. Не то. Так не будет. Будет маятник, который качнется в обратную сторону, возможно легкий сдвиг по принятию тех, кого сейчас в некоторых странах избивают за то, с чем они родились. Но не будет так, чтобы маятник окончательно долетев до той стороны обрыва радостно сорвался и люди бы поверили в подобное высказывание.
Безумие безумием, но все большие сдвиги против течения происходили не на основе лжи, которую легко изоблачить, а наоборот, на основе истинно научных данных. Иначе первая же волна скептиков бы ее разрушила к чертям. И тут важно понимать разницу между сдвигом против течения и по течению. Одно дело предложить голодной толпе пойти и убить соседей, чтобы получить их поля и овец. Это по течению. Люди хотят есть им дают неэтическое решение этой проблемы, но решение. А когда человеку что-то, наоборот, запрещают - должна быть четкая основа, по которой он поверит, что ограничивают его не просто так. Это против течения. Потому что гораздо проще покричать “да фигня все это, 200 кг это еще здоровый вес”, чем идти в спортзал. Потому что гораздо проще сказать “нету никакого сдвига климата”, чем думать и урезать использование бензина. Потому что гораздо проще сказать “да ладно, фигня все это, столько веков сексом занимались в гетеросексуальных парах, а теперь значит это плохо?”, чем переходить на таблетки и однополое сожительство без единого доказательства. Ну или строить Зону для тех, кто будет так жить.
Так что в этом месте я лютый Станиславский. Но я живу в другой стране, у нас безумие меньше, меньше чем в США, меньше, чем в других местах. А книга, насколько я поняла, именно что в будущем США. И возможно я недооцениваю, насколько сильно это безумие там заденет людей через 50, через 100 лет. Возможно это не маятник, а ракета. И через 20 лет мы будем говорить “никто бы не поверил, если бы мы об этом сказали 20 лет назад”.
В общем и целом книга делает две вещи - показывает нам Веронику, человека, который в состоянии не вписаться в фактически любое общество. И именно на примере чужака, показывает нам этот новый мир Зоны. Что логично. Тот, кому в новом мире комфортно и уютно, тот не будет ни пытаться оттуда вырваться, ни общаться с теми, кто знает правду. В этом месте, автор следует хорошо проторенной тропой Хаксли.
Мало того, то, что в книге за героиней не бегает в результате само государство, а лишь не очень изученный и показанный Марко, тоже дает некоторый флер. Нет ощущения классической борьбы “невписавшегося” против системы. Это не тот персонаж. Это на тот вид борьбы. Это не борьба против системы, это попытка выжить в мире, где правила заточены не под тебя, а под других. И всем на самом деле все ок. Это работающая система, она жутковата для нас, но для тех, кто там родился, она как мир Хаксли. Фактически утопия. И да, какие-то права ущемлены, но в конечном счете, люди-то счастливы, нет? Как и люди в “Дивном Новом Мире”. Просто персонаж не может в это счастье вписаться. И уходит, уезжает, пытается сбежать.
В конечном счете, у книги получилось на порядок лучше показать история человека, который живет на грани, сам это очень плохо осознает, и не знает, что можно жить по-другому. Что бывает такая вещь как стабильность, а не только послушность. Что можно построить мир так, чтобы не было выбора между “быть собой” и “быть послушным гражданином”. Да и откуда Веронике такое знать? Для нее кроме Зоны ничего нет. Она не умеет по-другому. И ей нужен внешний драйвер, чтобы это понять.
А вот сатира на наше общество, попытка предсказать будущее - тут получилось на порядок кукольней. Да, некоторые вещи встали как влитые. И показаны они глазами Вероники, тонко чувствующий все художницы, а не глазами политика или гостя. Поэтому вышло оно как поэтическое, футуристическое, даже не очень страшное. Только местами проглядывает все та же нетолерантность, только направленная на другое. Показывая, что как ни строй это общество, это всего лишь попытка вывернуть настоящее наизнанку, поменять знаки плюс и минус, а не любить и бояться люди будут всегда. Чужое всегда страшно.
В конечном счете остается этакая мысль - как бы ты не строил общество, кто бы там не правил бал, всегда будет большинство со своими правилами, под него заточенными. И будет меньшинство тех, кто в эти правила не впишется. И максимум, что мы можем сделать - создать множество таких обществ, чтобы каждый мог найти себе что-то по вкусу. И возможно мечты об унифицированном мире, без стран, и едиными законами, возможно это не очень удачные мечты. Потому что чем меньше у людей вариантов, тем больше будет таких, как Вероника, которым некуда деться из той системы, где они выросли, но куда они абсолютно не вписываются.
