Рецензия на роман «Плоскость морали»

Это детектив, но в тегах к роману стоит среди прочего «историческая проза», хотя я бы вместо этого поставила – «развесистая клюква», поскольку с исторической достоверностью там всё очень плохо.
События в книге начинаются с конкретной даты – 5 апреля 1879 года. До первого применения в России динамита террористами ещё больше семи месяцев, но в речи персонажей уже фигурирует неведомо откуда взявшееся слово «бомбисты», более того, они ссылаются уже на какие-то якобы имевшие место взрывы:
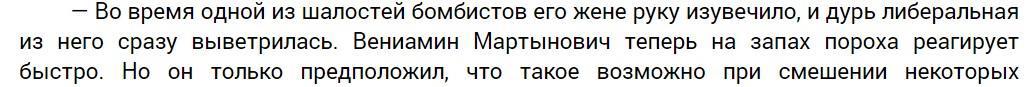
Дальше упоминаются события в подпольной динамитной мастерской – в то время их в России ещё не было, первая появилась только после решения августовского съезда «Земли и воли».
Судя по содержанию книги, автор не особенно утруждал себя изучением исторических источников. Именно поэтому в романе фигурирует какой-то Исполнительный комитет «Земли и воли», которого на самом деле никогда не было, и утверждается, что ночь перед покушением на императора А.К.Соловьёв провёл у проститутки с Невского, тогда как ночевал он у товарища, одного из руководителей «Земли и воли» А.Д. Михайлова. Кроме того, Перовская якобы участвует в подкопе под банк в Херсоне; откуда автор взял эту лживую информацию и, главное, зачем – непонятно.
Нелегалы в романе ведут себя совершенно неадекватно – например, Варвара Акимова, сделав крупный заказ на газетную бумагу, идёт прямиком в подпольную типографию, а Осоргин весело проводит время с товарищами в публичном доме, где они пьют, матерятся и пользуют девок, а в перерывах между этими занятиями... распевают революционные песни! Согласитесь, последнее – вот просто находка! Особенно, если учесть, что это было время, когда могли приговорить к виселице всего лишь за хранение прокламаций.
По словам автора, идейное содержание романа отражено в следующем:
"— Знаешь, я подумал, что ты в чём-то и прав, — Валериан поёжился, словно его морозило. — Полтора десятка человек. Обычная толпа любого дома. Эмансипированные нигилистки, проповедующие свободу нравов, но с готовностью поливающие грязью особу, пойманную ими на этой самой свободе. Революционер-сифилитик с уголовными замашками, его братец, с революционными убеждениями и любовью к народу, ведущий под венец десять тысяч приданого. Светские львы, чьи интересы не идут дальше денег и сплетен, и готовые при надобности денег до зарезу — бездумно зарезать. Сестры, не могущие, прожив вместе под одной крышей двадцать лет, сказать о своей сестре ничего, кроме того, что она любила курагу, и проповедники нового устройства мира, не умеющие устроить на носу свои собственные очки и научиться тщательно застёгивать ширинку на штанах. И наконец, поэт, элита нации, хладнокровно заманивающий к себе на ночь девицу, прикрываясь именем соперника...
— Великолепный анализ, Валье, — кивнул Юлиан. — И что?
— И эта страна мнит, что способна указать свет миру? И что именно на неё-де направлен таинственный перст Божий — указать дорогу к свету?"
Вот в некотором роде мораль романа. Это о людях как таковых, а не о подполье.
И всё бы хорошо, но вот как раз морали я здесь не вижу, да и идея – сомнительная какая-то: что Россия не «способна указать свет миру», поскольку люди в ней, от низов до элиты, сплошь безнравственны? Кто же с этим явно необъективным и голословным утверждением согласится?
В аннотации к произведению сказано: «Это роман о том, что, борясь с сатаной, очень важно не осатанеть самому». У меня сложилось впечатление, что он, скорее, о том, насколько важно вовремя обратиться к специалисту по поводу психической травмы, иначе всё закончится очень грустно.
Сюжет произведения незамысловат: агент охранки, своими руками убив одного шпиона, ищет следующего. Служба эта «и опасна, и трудна» – ему приходится присутствовать на различных светских увеселительных мероприятиях и болтать со специально приглашёнными туда нигилистками, чем он, собственно, весь роман и занимается.
Ближе к концу происходят одно за другим два убийства, которые герой без труда раскрывает. Действий здесь мало, в основном одни разговоры. Основная же загадка не в том, кто и с какой целью задушил девушек (мотивация убийц в обоих случаях самая банальная), а в том, почему герой романа не отвечает взаимностью ни одной из наперегонки бегающих за ним дам. Эта тайна раскроется только в самом конце, на исповеди.
Итак, главный герой. Зовут его Юлиан Витольдович Нальянов. Это «молодой человек с огромными глазами», похожий – ни больше, ни меньше!– на архангела Гавриила. Он аристократ (и по совместительству, как уже упоминалось, агент охранки, не чурающийся даже откровенно грязных дел). Его отец и брат тоже служат в печально известном Третьем отделении.
Юлиан невероятный красавец. Да, именно – невероятный, потому что восторженных эпитетов ему щедрой авторской рукой отсыпано столько, что верится во всё это совершенство с трудом.
«Иконописный ангел», «красавец писаный», «смарагдовые глаза», «царственные глаза», «тонкое лицо», «надменный греко-римский профиль», «горделивые глаза колдуна», «безукоризненная правильность бледного лица», «соболиные брови», «магическое обаяние», «контраст утончённости и властности», «поразительное, магнетическое обаяние». «В нём было что-то удивительное (…), завораживающее, околдовывающее». А ещё он «лучезарно улыбается», великолепно играет на рояле и гитаре, а также поёт.
Налицо уже явный перебор восхвалений, но автор на этом не останавливается:

И на этом тоже:
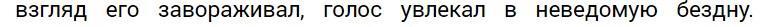 Теперь поняли? Или ещё добавить:
Теперь поняли? Или ещё добавить:
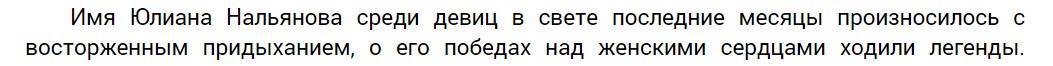 Да что там девицы - мужчины тоже поражены его великолепием):
Да что там девицы - мужчины тоже поражены его великолепием):

И ещё:
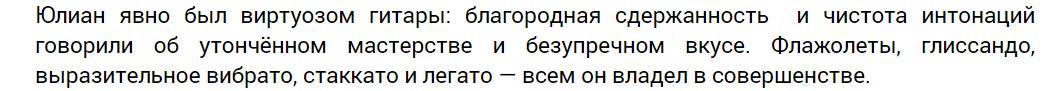
С первого своего появления на страницах романа Юлиан начинает рассуждать о «примате морали», о том, что «устои мира» покоятся на заповедях Божьих. Окружающие отзываются о нём как о «холодном идоле морали», тогда как с нравственностью у него явные проблемы.
Юлиан говорит о святости милосердия и любви, при этом на совести его не одно преступление. Не способный на самоотверженность и презирающий почти всех людей, он считает, что стремление улучшить жизнь народа может объясняться лишь одной причиной – жаждой власти, и любые доводы о том, что стремиться к справедливому общественному устройству можно совершенно бескорыстно, извращает вот в такой манере:
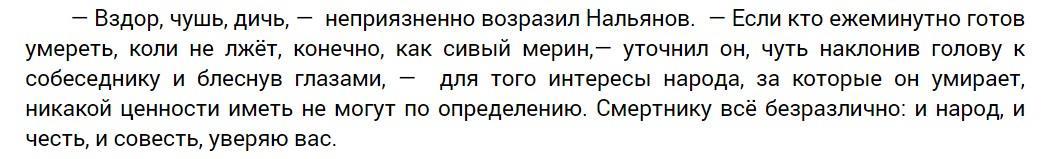
Революционеров он ненавидит всеми фибрами души. По его мнению, все противники самодержавного произвола – неудачники, «люди кривой морали, ничтожного ума», «похотливые козлы», в общем, «отбросы всех мастей». И надо сказать, что те «борцы за народное дело», с которыми Нальянов по ходу романа общается, полностью всем этим характеристикам соответствуют.
Автор изображает их настолько карикатурно, что они выглядят скопищем редкостных моральных уродов. Не избегают этого даже реальные исторические лица. Желябов якобы «орёт как резаный», опасаясь, что вместо него «войдёт в историю» самозванец. О Перовской пишется ещё более отвратительная клевета:
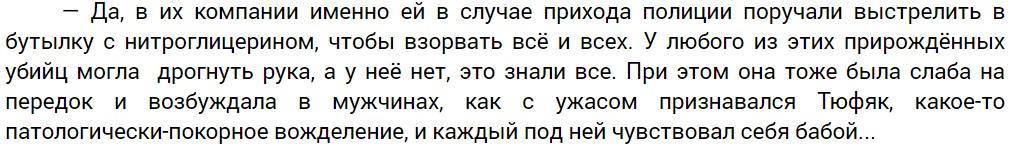
Нальянов не без оснований называет себя палачом, но нисколько не стыдится этого. Он тоже мечтает о том, чтобы сделать мир лучше. Для этого, по его мнению, нужно уничтожить чуть ли не всех людей:

И если кто-то считает, что хотя бы после исповеди на него снизойдёт духовное просветление, то он ошибается.
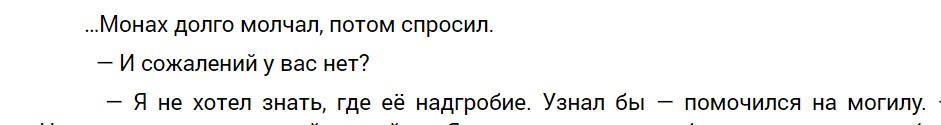
Посетовав под конец своей беседы с монахом о том, что зло не искореняется кострами инквизиции и трибуналами, герой получает отпущение всех своих грехов.
Читается роман легко, и то, что повествование ведётся от лица "всеведущего автора", нисколько не мешает по одной простой причине: человеку, знакомому с историей России, в описываемое поверить невозможно, а сопереживать здесь некому. Замеченные косяки – под спойлером.
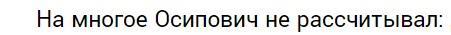
Почему вдруг жандарм Вениамин Осипович Вельчевский так панибратски называется автором?
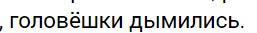
Не головёшки, а головешки.

ей
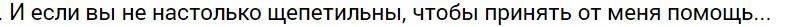
Здесь по смыслу не надо "не".
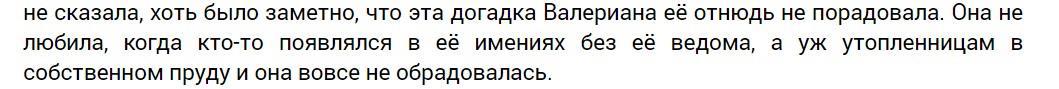 не "и она", а "она и".
не "и она", а "она и".

"Ванная" - это комната. Поставить можно не ванную, а ванну.

"Уверенно проронил" - несочетаемые по смыслу слова.
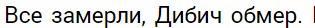

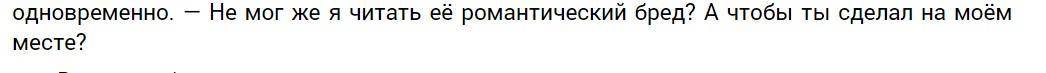
что бы - раздельно.
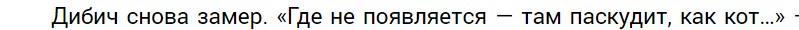
где НИ появляется
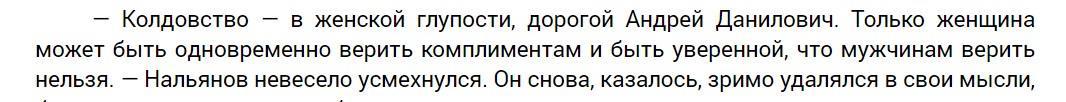

Женщина может быть верить? Если бы НЕ он
Меня всегда занимал вопрос – зачем писать или читать книги, в которых фактически нет положительных героев? Он остаётся открытым.
