Рецензия на роман «Текст ухватил себя за хвост»
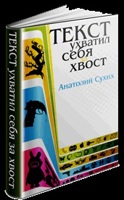
Параллельные прямые не пересекаются. Или пересекаются, но не в Евклидовом пространстве, или... В общем, я и этот текст как две пресловутые параллельные прямые. Хотя, если быть совсем точной, мы две синусоиды в противофазе — то сходимся и почти нащупываем точки соприкосновения, то разбегаемся настолько далеко, что перестаем понимать друг друга. Как заметил один из персонажей:
Я до конца не улавливаю сути происходящего, но способна понять некие правила.
Оригинальность произведения, соответствие его условиям конкурса.
Начнем с того, что я затрудняюсь определить жанр этого романа. Поэтому обратимся к самому автору:
Роман у меня, как и задумывалось, получается филологический — психологический — фантасмагорический — концептуальный. Как и задумывалось.
Вообще-то это книга рецептов. Вроде кулинарной книги. Все рецепты содержатся наяву и комментируются, вернее, иллюстрируются ситуациями, которые как бы никакого отношения к изложению не имеют, тем не менее, без этого читать было бы совершенно невозможно, потому что читать было бы как бы и нечего.
По общему впечатлению я бы охарактеризовала эту книгу как житейски-философский монолог с элементами научной фантастики. Будто беседуешь с неким человеком, который рассказывает тебе эпизод из собственного прошлого, щедро приправляя сюжет размышлениями обо всем на свете.
Что перед нами самый настоящий неформатный неформат, это вы, надеюсь, уже поняли, а вот если оценивать этот неформат по формальным критериям, то выходит… ерунда выходит.
Логичность изложения, организация/внятность текста, достоверность событий на основании фантдопа, обоснование фантдопа.
Вот и первый пункт, по которому этот роман слишком «неформатный». Изначально текст напоминает поток образов, мысль растекается по дереву (по тому самому, Ларошфуко которое), скачет с пятого на десятое, переходит с одной темы на другую (от инопланетян к мемам, от бытовых зарисовок к разумному океану, от международных шпионских игр к геометрии и фундаментальной физике) совершенно бессвязно.
Это потому что фабула романа практически уже стала тем самым первичным бульоном, тем первозданным хаосом с пульсирующим псевдоожиженным слоем, в котором возникают репликаторы смыслов, причудливо пожирая друг друга и порождая другие причудливые репликаторы.
Но примерно с середины проступает скрытая внутренняя логика. И читатель начинает если не понимать, то догадываться, для чего было сказано все предыдущее.
Эволюция текста медленно, но неуклонно приводит к появлению высших форм, которые одни только и оправдывают само существование несвязанных связанностей, возникновению того, что как бы ниоткуда берется и одухотворяет эту ерунду, которая в итоге и должна произвести то чудо произведения, без которого никакого произведения попросту и нет.
Я бы, пожалуй, сравнила текст с мозаикой. Отдельные кусочки складываются в картину, но увидеть ее можно только с определенного расстояния и ракурса.
Возможно, читалось бы легче и интереснее, если бы тексту добавить связности, привести к единому знаменателю. Только тогда это будет совершенно другой текст.
Сюжет — развитие, гладкость, понятность, реалистичность, интересность.
Я ведь как вначале подумал — главное начать. Кривая потом сама выведет. Не выводит кривая. Откуда-то лезут персонажи эпизодические, а чего им тут спрашивается делать? Только сюжет разваливают. Впрочем, никакого сюжета как бы и нет. Потому что я его так до сих пор и не придумал.
Автор, конечно, хитрит, потому что сюжет тут какой-никакой есть, но он не играет основной роли. В романе гораздо интереснее эволюция самого текста и мыслей главного героя, чем происходящие с персонажами события.
Провисает сюжет. Еще бы ему не провисать, я же ничего не хочу предпринимать, чтобы сюжет стал тугой и горячий. Во-первых, незачем, да и мне это не очень интересно. Во-вторых, когда и если сюжет тугой, тогда появляется напряжение, а мне напряжение как-то не очень.
Тема, конфликт произведения - насколько убедительно показано.
Собственно, у меня есть тема, которую я пытаюсь выразить через поведение моих персонажей.
Тему эту, если кратко и по сути, я бы сформулировал, как тему самоидентификации. Самоидентификации не только персоналия, а и социума.
То есть, почему социум такой, а не какой-то другой.
Тема, определенно, интересная, глобальная тема, и раскрыта она достойно и необычно.
С конфликтом более размыто. Вроде бы и интересы у персонажей сталкиваются, но напряжения нет, не нужно оно автору, как он сам заявляет. Скорее, конфликт тут больше внутренний — человек пытается понять непознаваемое, одновременно догадываясь, что это невозможно.
Герои — верите им? Видите их?
Герои тут как кот Шредингера — то ли есть, то ли нет. Или, скорее, как Чешир, от которого остается одна улыбка. Так и от героев остались отдельные яркие жизненные эпизоды. Персонажи выскакивают по прихоти автора, как черти из табакерок (или куклы суок), чтобы затем снова кануть в никуда.
Бытовые зарисовки (варка борща, прогулка на лыжах по лесу) яркие, зримые, хорошо раскрывающие персонажей. Но за счет отсутствия последовательности и определенности («Значит так, их было трое — Ларошфуко, Бенедикт, Кардинал и Ирина. Ирина и была Кардинал. Или Бенедикт. Но точно не Ларошфуко, потому что не спросишь»), герои, особенно, в начале, теряются за бесконечными вставками на отвлеченные темы, и когда наконец-то наступает их «эфирное время», читатель сидит и вспоминает, кто есть кто и чего этот кто-то хочет? Больше всего сбивала с толку резкая смена фокала, когда автор предлагал читателю посмотреть на основного рассказчика от третьего лица
Стиль и язык автора — насколько вам хорошо читается.
Интересный пункт, сложный, оставивший двоякое впечатление.
С одной стороны, каждый отдельный эпизод читается очень легко. С другой, из-за упомянутых раньше особенностей, роман утомляет. Текст напоминает овсянку — и полезно, но много за раз не съешь, а потом думаешь, а хочу ли я этой каши еще. Честно признаюсь, что не стала бы его читать, кабы не условия конкурса. И также честно признаю, что в целом не пожалела. Это, определенно, был интересный опыт.
Особенно, тяжело шло начало, когда роман еще напоминал «первичный бульон». В какой-то момент я устала пытаться связать и запомнить все скачки мыслей и просто сидела и наблюдала. Впрочем, похоже автор такого эффекта и добивался.
Вот вы, наверное, неправильно эту книгу читаете.
Cмысл этой неправильности заключается в том, что вы всё время торопитесь. Вы торопитесь что-то такое сделать, потому что потом можно будет и не успеть, вы думаете постоянно о том, что будет завтра, послезавтра, через год.
И еще вы всё время вспоминаете и переживаете о том, что было вчера, давеча, в раннем детстве, и тоже как бы переживаете. И книгу эту вы читаете также — стремитесь узнать, что будет дальше, и вспоминаете постоянно, а что было раньше.
Ни жить так, ни читать так, пожалуй, не следует, потому что жить следует здесь и сейчас. Это легко сказать, но трудно сделать
Вам дело до себя только должно быть, до своего состояния, и я очень хочу, чтобы оно было как бы изменённое, то есть, чтобы вы как бы в трансе пребывали.
Я бы действительно сравнила чтение первой половины книги с гипнозом: что-то происходит, что-то мелькает, а отвлечешься — рассыпается как карточный домик, и уже сложно сказать, а о чем все это было. Тем более автор не стесняется использовать приемы НЛП, запускать вирусные мемы (или мимы?). Узнаваемые образы, обращения к культурной подкорке — с одной стороны, это цепляет, с другой злит, рождая ощущение, что читателя нагло обманывают.
Честно говоря, вначале раздражало многое. «Бессмысленное» словоблудие, прописные истины, подаваемые с умным видом, нелепые попытки острить, даже заигрывание с читателем.
Позже появилось желание дочитать — не потому что надо, а потому что хочется. Я, как радиоприемник на нужную волну, настроилась на текст. Недостатки как-то незаметно превратились в достоинства. Вообще интересно было понаблюдать за своей реакциями, сменой настроения от «что за бред» до «а в целом, ничего, необычно». Так что если целью автора стояло заставить читателя заняться самокопанием, он ее добился.
Еще хотелось бы отметить использованные в качестве эпиграфов стихи (они хороши!) и прием «стирание границ», когда в тексте идет речь о самом тексте или герои, разговаривая друг с другом, одновременно говорят и с читателем — в иных книгах это обычно смотрится наигранно, а в этой почему-то уместно.