Рецензия на сборник рассказов «Пастуший рог полесского ветра»
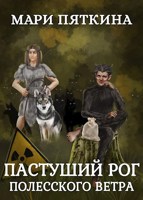
Рецензия на сборник рассказов «Пастуший рог полесского ветра» – Мари Пяткина
На мой вкус, рецензируемый сборник имеет только один серьезный недостаток: в нем всего пять рассказов. Поэтому о недостатках я говорить не буду. Перейду сразу к достоинствам.
В аннотации Мари обещает познакомить читателей с мистикой и фольклором своего края. Задачу эту она выполняет на «отлично», демонстрируя великолепное знание этого самого фольклора. Книга написана хорошим образным языком. Вкрапления украинской речи отменно работают на создание национального колорита. Особо следует отметить проработку персонажей. В узком пространстве рассказа обрисовать их можно только штрихами, но Мари справляется. Действующие лица выглядят живыми. Мари также искусно сплетает рассказы в единую цепь, перенося некоторых персонажей из одного сюжета в другой.
Стержневыми в сборнике можно считать три рассказа: «Помощник», «Бранець» и «Одынак». Все они связаны сюжетно, поскольку в «Одынаке» показана дальнейшая судьба главного героя «Бранця» и одного из героев «Помощника» – беса Антипки. Но есть у них и глубинная связь. Все три рассказа – о любви. Но тут необходимо пояснение.
Русское слово любовь охватывает множество значений: от пристрастия к борщу до чувства к женщине, которая этот борщ варит, и далее – к более общим и возвышенным моментам, вплоть до любви к Богу. А вот мудрые греки придумали разные слова для обозначения разных ипостасей любви. Это, прежде всего, эрос (чувственная страсть), филиа (любовь к родителям, братьям и сестрам, друзьям, народу, отечеству и т. д.) и, наконец, агапэ (жертвенная любовь). Это о ней апостол Иоанн писал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15: 13). Можно и несколько перефразировать: за ближних своих. Кроме того, имеется еще отдельный термин для родственной любви – сторге. Так вот, в перечисленных рассказах мы встречаем и эрос, и сторге, и агапэ, но агапэ – на первом месте.
В «Помощнике» героиня испытывает жертвенную любовь к женщине, которая не была ее биологической матерью и, фактически, материнские обязанности выполняла не лучшим образом, а также к родной дочери этой женщины, ставшей нечистью. Ради них, ради спасения их душ Аля жертвует своей подлинной – нелюдской – сущностью. Агапэ героини оказывается такой сильной, что потрясает даже беса, вызывает у него стремление к покаянию. Сцена покаяния нечистого духа одна из самых сильных в рассказе.
За историей кающегося беса стоит народная традиция, известная и в Западной Европе. В средневековой литературе можно встретить истории, где бес жертвует деньги на колокол для приходящей в упадок церквушки или жаждет отпущения грехов. Впрочем, вполне стать на стезю добра нечистым духам невозможно. Как пишет в одной из своих работ А. Я. Гуревич: «Добро сильнее зла и торжествует над ним, перетягивая на свою сторону даже eгo носителей, правда, лишь на единый миг. Ибо бес не может перестать быть бесом и никакие добрые дела не в состоянии возвратить eгo к Богу. Временно нарушенный баланс сил света и тьмы неизбежно восстанавливается…» Восстановление баланса происходит и в случае с Антипкой. В «Одынаке» мы узнаем, что он вновь взялся за старое.
В «Бранце» перед нами предстают эрос и сторге. Эрос здесь представляет лисунка. Ее образ генетически восходит к образам богинь типа Артемиды. По классификации И. М. Дьяконова, это богини-девы. Не девственницы (хотя и такое случается, взять ту же Артемиду), а не-матери, носительницы не материнского начала, а сексуальности и сексуальной агрессии. Вот и эрос лисунки злой, агрессивный и хаотичный. Важной характеристикой лесной девы выступает ее полная неспособность прощать, что является признаком тотального повреждения ее природы злом. Непрощение вообще один из самых тяжких грехов. Вспомним: молитва «Отче наш» ставит Божье прощение в прямую зависимость от нашей способности прощать. О том же говорит евангельская притча о немилосердном заимодавце (Мф. 18: 23–35).
Сперва лисунка пытается заполучить отца главного героя – Никиты. Но матери героя удается удержать мужа. Дальнейшее действие разворачивается вокруг любви матери и сына. Чтобы не дать лисунке отомстить матери, герой жертвует собой и становится пленником лесной хозяйки, обращенным в волка (сторге трансформируется в агапэ). Герой растет, и постепенно между ним и лисункой возникает эротическое влечение. Никита даже вновь идет на жертву: отказывается от возможности освободиться, потому что пытается помочь лесной деве. Но любовь к матери все же берет верх. В этот момент трансформируется в агапэ эрос лисунки. Она отпускает пленника, обрекая себя на гибель. Самое поразительное заключается в том, что к ближним, ради которых она жертвует собой, теперь можно причислить не только Никиту, но и его мать – женщину, которую лисунка ненавидит и которая дважды одерживает над ней победу.
Тут мы видим проявление важнейшей особенности агапэ. Эта особенность раскрыта в одной из самых известных евангельских притч – притче о милосердном самарянине (Лк. 10: 30–35). Саму притчу я пересказывать не буду по причине ее общеизвестности. Напомню только, что самаряне и иудеи реально были врагами. Степень их неприязни хорошо иллюстрирует другой эпизод из Евангелия от Луки: «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение» (Лк. 9: 51–56). Тут видно, что даже ученики Иисуса были готовы палить самарян огнем. Хотя, когда Христа пытались побить камнями иудеи, мысль о небесном огне им в голову не приходила. Поэтому самарянин, оказавший помощь иудею жертвовал не только деньгами и временем. Если бы другие самаряне узнали о его поступке, у него могли возникнуть очень большие проблемы.
Но вернусь к притче. Тут важен контекст, в который она поставлена. Начинается все с разговора Иисуса с законником: «И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?» (Лк. 10: 25–29).
Дальше Иисус рассказывает притчу и завершает ее так: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай также» (Лк. 10: 36–37). Такая постановка вопроса указывает на активный характер агапэ, на ее способность создавать ближних, превращая в них даже врагов. И законнику предлагается не выяснять, кто ему ближний, а самому их формировать. Это свойство агапэ как раз и работает в случае с лисункой.
В «Одынаке» перед нами предстает больной эрос: любовь к умершему, нежелание его отпустить, которые приводят героиню рассказа прямиком в объятия нечисти. Спасает женщину Никита. Агапэ побуждает его помогать людям, в том числе и спасая их от нечисти. Под воздействием жертвенности Никиты героиня испытывает катарсис и делается способной отпустить умершего мужа.
Что касается рассказа «Гучмана», в нем, с одной стороны, поднимаются те же проблемы, что и в трех разобранных мною, с другой, он стоит немного особняком, а потому заслуживает отдельного разговора. И я здесь касаться его не буду.
Рассказ «Миротворец» в некотором смысле является антитезой остальным. В нем доминирует сторге – желание героя спасти брата. Вот только агапэ здесь не рождается. Герой слишком уверен в собственной крутизне, в том, что знает, как надо, и по глупости запарывает дело, за которое взялся. Катарсическое начало тут отсутствует. Но рассказ этот совершенно необходим именно в качестве антитезы. Он усиливает главную тему остальных рассказов.
В целом сборник показывает важную особенность творчества Мари Пяткиной. Она часто пишет о жестоких, страшных и совершенно неэстетичных вещах. Но безысходности в ее произведениях нет. Даже там, где, казалось бы, все совсем плохо. Почему? Потому, что в них есть свет любви и надежды. Тот свет, что дается нам свыше. И этим светом Мари щедро делится со своими читателями. А увидим ли мы его, согласимся ли принять предлагаемый нам дар, осветим ли этим светом свои потемки, уже наша проблема.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Иоан. 1: 5)…
