Рецензия на роман «Путь Холлана»
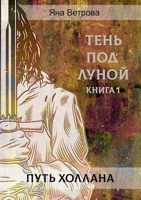
«…А что было потом?»
Эти слова произносят дети, когда, рассказывая, вы вдруг замолкаете. Услышав эти слова, рассказчик понимает, что слушателям не всё равно.
Для многих из нас радость, которую приносит книга, – это радость полёта не скованного реальностью воображения.
Нил Гейман
Зачем вообще люди говорят о книжках? Отметая «надо в рамках профессии/марафона» и страстное желание поплеваться ядом, остаётся… пожалуй – вопрос. Вопрос к книжке, на который там нет чёткого, однозначного, а главное, полностью устраивающего читателя ответа.
Послевкусие. Это не совсем то же, что вопрос, ибо послевкусие может оставить и книга, к событиям и героям которой вопросов нет, но есть глубокий интерес к нерассказаному, оставшемуся в пространстве между строк и за последней страницей. Что было после того, как книга закончилась…
И эта радость, о которой говорит Гейман, этот интерес к тому, что было потом, включает много аспектов. Что на самом деле чувствовал герой в этой сцене, как дошёл злодей до жизни такой, что произойдёт с планетой/страной/деревней, будет ли героиня в замужестве счастлива, и так далее.
Но вопросы имеет смысл задавать кому-то. Самому с собой беседовать не очень-то интересно. Для обсуждения книги нужен собеседник, который её читал. Считайте это моим постулатом; если у вас не так, то прекрасно, я вовсе не утверждаю, что так – у всех. Но так у меня.
И в теории выходит, что лучший собеседник – это сам автор. Тот, кто знает ответы на все вопросы и что было после; а если и не знает, то именно его догадки – в приоритете. Само собой, авторы бывают разные, но подобное тянется к подобному… и когда я дочитываю книгу, которая мне по-настоящему понравилась, то первое ощущение: нам с автором было бы о чём поговорить.
Рецензия – это ведь разговор о книге. И одно дело, когда книга уже успела стать классикой, а автор далеко, и тогда разговор идёт с другими читателями, состоявшимися или потенциальными. А совсем другое – когда автор в том же пространстве, что и ты сам. И тогда я не могу удержаться от удовольствия поговорить о книге в первую очередь с ним – с писателем. При этом, конечно, я стараюсь сделать этот разговор понятным и главное, увлекательным для тех, кто книгу ещё не читал (что очень мешает иногда, ибо спойлеры).
И когда я писал первую рецензию на эту книгу, я за спойлеры переживал. Да и сейчас переживаю. Ибо они будут. Без них просто не поговоришь обо всём том, что я хотел бы сказать после того, как прочёл книгу, написал рецензию, обсудил интересные моменты с автором и не только… и понял, что сказать о книге могу ещё столько, что это, пожалуй, потянет на рецензию-дубль-два.
Аппетит приходит во время еды, поистине.
Но главный герой этой истории умер, остались только второстепенные персонажи. Вот и шарахается по карте мира странная компания, ни один из членов которой не тянет на главного героя.
Яна Ветрова, автор
Это, как вы понимаете, цитата не из книги. А из межстраничья, куда я погружусь сейчас, с удовольствием для себя и надеюсь, для автора и читателей — а если всё это шоу привлечёт новых читателей, то сверхзадача рецензии будет выполнена. И хотя рецензии мои часто выходят специфичными, обычно я стараюсь не вылезать из рамок, установленных для литературной критики, в частности любимой мною герменевтики. И тут я последую одному из её принципов, а именно, вариативности: возможно множество интерпретаций одного произведения. Собственно, если бы я не понял, что могу проанализировать «Путь Холлана» с иной точки зрения, чем сделал в рецензии-1, то ограничился бы приставанием к автору в комментариях. А теперь — к конкретике.
«Путь Холлана» – книга-инверсия. Она содержит, пожалуй, больше инверсий разного рода, чем все книги, которые я навскидку могу припомнить.
Первая из них сформулирована уже в тегах: «фэнтези без магии». Да, такое я видел и раньше, но штука это редкая.
Вторая – тоже весьма очевидная для читавших – инверсия сюжетная, которую можно выразить как «всё не то, чем кажется» и даже «всё, что кажется случайным, не случайно».
В том же первом, сюжетном, слое мы видим ещё одну инверсию – нешаблонную: все типажи, которые мы уже привыкли представлять в определённом ключе, плюс-минус небольшие отклонения от шаблонов, тут разрывают эти шаблоны очень сильно. Наёмник, ученик, принцесса, монашка, воин… даже наркоман. Кого ни возьми, мы очень быстро убеждаемся, что шаблоны сломаны капитально и люди не те, какими кажутся поначалу.
К этой инверсии, кстати, примыкает ещё одна – скажем, «незеркальная». Она чуть менее заметна и становится видна по мере чтения, ближе к финалу: ломая шаблоны, автор тем не менее не идёт по пути простой замены плюсов на минусы. Тут спойлер, осторожно… Что я имею в виду: хотя персонажи и не оправдывают ожиданий читателя, готового к клише, но не оправдывают их необычно. Холлан – наёмник, но он не циничный жёсткий убийца, проводник «серой морали» и апологет концепции «что угодно за ваши деньги». Но он и не благородный странник под маской наёмника, чья душа прекрасна и пахнет розами, а принципы твёрже мифрила с адамантием; и не тонкая натура, полная возвышенных чувств и страданий. Хотя и принципы, и страдание тут есть – как и цинизм, хотя лишь на поверхности, с виду. На самом деле «печальный алкоголик» – человек, ушедший вглубь себя, запертый внутри стен, отделяющих его от мира, и выбор этот осознан. Однако суть Холлана то и дело прорывается сквозь барьер, открывая и храбрость, и решительность, и заботу, и сдержанное чувство юмора… и проницательность, несмотря на имидж простака (о котором, впрочем, поговорим позже).
Точно так же инвертированы остальные типажи. Княжна – не хрупкая романтичная «дева в беде», но и не резкая-дерзкая девчонка с острым язычком и вздорным нравом. Ученик – не неуклюжий подросток, у которого всё валится из рук и на котором учитель оттачивает свои мудрые идеи (заодно донося их до читателя) – однако он и не взрослый в обличье подростка, не марти-стю, а обычный мальчишка, который и ведёт себя по-мальчишески, в полном соответствии с возрастом. Благородный легендарный воин зовёт себя торговцем, однако не является беспринципным стяжателем… и.т.д.
Дальше инверсия посложнее, назовём её «негероической», и она уже уходит за слой сюжета в слой идейный, смысловой. О ней я говорил в рецензии-1 – и собственно, эта инверсия вынесена в эпиграф, цитатой. Среди действующих лиц истории нет Героев в общепринятом смысле слова – все они люди с множеством слабостей, относящих их к разряду… не сказал бы, что неудачников, но уж никак не героев. Героем – то есть, незаурядным, духовно сильным человеком, воплощением добра, отваги, мудрости и Света, способным вести за собой и подавать достойный пример, – является тот, кто мёртв и кого читатель видит лишь в воспоминаниях Холлана.
Кстати, образ Илисара – тоже пример «нешаблонной» инверсии: такое чувство, что он вошёл в мир из другого времени, обогнав мировоззрение и мораль своего народа. Да и сам народ – племя-под-Луной, почти целиком уничтоженное и оставшееся в памяти людей под презрительной кличкой «загнанные» – ещё одна инверсия, по сути. Слово «племя», родовые имена, татуировки на щеках – это относит нас к временам давним, намекая на довольно примитивную культуру; однако образ Илисара, его поведение с Холланом, уроки, преподаваемые мальчику, – всё вполне современно. Вот уж кто бы мог быть «попаданцем», угодившим в далёкое прошлое, так это Илисар… а возможно, в чём-то он опередил и наше время.
Неудивительно, что он погиб. И совершенно неудивительно, что отбросил такую далёкую и судьбоносную «тень» на людей, которые знали его лично, как Холлан, или лишь слышали о его деяниях, как Марсен.
Но собственно, о чём-то из этого я писал и раньше. А вот тут уходим дальше… в более глубокие слои этой истории.
– Ты как из сказки, – прошептала Исабель, обнимая его за шею.
– Я из сказки, – согласился Холлан.
Несмотря на то, что история разворачивается не в нашем мире, но при отсутствии магии, а зато при вполне реалистичных взаимоотношениях людей и стран – сказкой она на первый взгляд не кажется. Она очень настоящая и рассказывается в таком естественном и убедительном стиле, что легко представить, будто это исторический роман, только Земля не наша, а параллельная. Всё те же люди, всё те же драмы и вечные вопросы: о смысле жизни, о верности, памяти, выборе и любви… и очень реалистичная атмосфера грусти, сопровождающая большинство несказочных историй о не-героических героях.
Однако когда я рассуждал о Холлане, у меня проскочило сравнение с Иванушкой-дурачком, что меня самого, в общем-то, удивило, поскольку Холлан отнюдь не дурак, он вполне сообразителен, умеет выстраивать планы, реагировать на изменение обстоятельств, учить (а это дело весьма непростое)… При том, что основную часть книги он пытается вообще свои способности не применять, а оставаться в своём эмоциональном коконе вдали от мира, но при этом всё же видит и понимает многое – он отнюдь не простачок.
А потом – финал истории, битва с легендарным Серым князем, в чью реальность верит только Холлан, а остальные готовы считать его символом, а не живым человеком. Но на поле боя выходит именно человек, тот самый, которого в юности видел Холлан у места казни Илисара. И бой между ними, один на один при замерших двух воинствах, которые глаз не сводят с поединка, – он смотрится не то чтобы «сказочно» в буквальном смысле слова, ибо это бой жестокий, а герой не обретает волшебной сверхсилы, и исход решает не некое высшее Добро, а череда абсолютно понятных и естественных событий… и очень печальных – но кстати, печаль-то всегда была свойственна сказкам.
А вот когда поражение одного из воинов сразу влечёт за собой поражение и всей его стороны, в израненного победителя никто не пытается пустить стрелу, а место убитого предводителя не занимает его шустрый сподвижник – это уже элемент мифа… сказки.
На этом месте в который раз попробую выделить аспекты, безусловно относящие произведение к сказкам… хотя это непросто и с магией, а в её отсутствие тем более. Раньше я писал следующее:
Сказка – история ситуативная. В сказке герои помещаются в заданную ситуацию – с тем, чтобы показать, как они эту ситуацию разрешают. Сама ситуация создаётся лишь для того, чтобы героям было откуда выбираться. Именно они – их смекалка, отвага, доброта, честность (или наоборот, умение ловко солгать), дружба, верность, любовь – и являются тем стержнем, той сверхцелью, ради которой создаётся сказка.
По сути, сказка – охотничье угодье психолога. Это история о человеке и его решениях.
В сказке главное – человек.
О чём не волнуются авторы сказок? О достоверности ситуаций. Я имею в виду не буквальную достоверность, а в рамках заданных условий. Ситуации внутри сказки могут вовсе не следовать какой-то логике. Что-то просто происходит так, а не иначе. А в другой момент произойдёт вот эдак, ибо так получается по волшебству. Тростник может запеть или нет, и это не какой-то особый тростник, и важно не просто полить его кровью, а именно кровью невинной жертвы, и он запоёт, обличая убийцу. Птица поможет одной девочке, но не поможет другой. Почему карета снова станет тыквой в полночь? Если фея так всесильна, то что ограничивает действие магии именно полночью? И так далее.
Итак, мир сказки изначально условен. Он не зиждется на заданной системе аксиом. Он по сути хаотичен – если автору понадобится ввести туда ещё магию, она там появится. Равно как и волшебные предметы, звери и явления. Они появятся как непосредственная реакция на героев и их решения – но не существуют сами по себе. Взгляните на большинство классических сказок: у всех «волшебных друзей» или «волшебных врагов» явно нет своей личной задачи, кроме как реагировать на поступки героев.
Теперь рассмотрим фэнтези. А вот это уже – история систематичная. Она основана на некой твёрдой системе, которая подчинена некой логике, пусть и аксиоматика здесь противоречит тому, что реально существует или может существовать. Здесь есть магия – но она систематизирована и следует законам. Если сказка иррациональна по сути, то фэнтези содержит рацио, пусть специфичное.
И что крайне важно – в фэнтези антураж, то есть мир, имеет принципиальное значение. Зачастую он значим не меньше, чем герои. И бывает даже, что он и является «главным героем», а действующие лица вводятся скорее для оттенения мира, для иллюстрации, как там всё устроено.
Сказка – ситуация. Фэнтези – структура.
В мире сказки дом волшебника или короля может стоять посреди леса (и никого не волнует, как он снабжается продуктами и остальным), замок может зарасти терновником по крышу, и никого не озадачит, что за это время не появился новый король и не отгрохал себе новый замок, радостно подмяв под себя королевство. И так далее. Принц женился на прислуге – ну и ладненько. Все рады, все танцуют.
Мир фэнтези – это мир, чьи базовые социальные установки практически неотличимы от реальности. Да, науку здесь может заменить магия, боги могут шляться среди людей, а волшебные палочки работать не хуже смартфонов, но принц и служанка – уже нонсенс. Или бесхозный трон, который никому не нужен.
Если в мире сказки ограничения исходят от магии как таковой и могут обладать единичным эффектом – если волк помог королевичу, то это не значит, что на это способны все волки или это произойдёт с любым добрым и смелым сыном короля, – то в мире фэнтези они будут носить социальный характер. Тут вступают в силу законы людей – опирающиеся на социально-психологическую парадигму. И фея вряд ли сможет просто прийти и перекроить судьбу государства лишь потому, что ей стало жаль бедного сироту. Феи тоже – часть социума. Значит, и они существуют в рамках неких законов и ограничений.
Сказки – рамки заданы магией. Фэнтези – рамки заданы социальной структурой общества разумных существ.
Однако в «Пути Холлана» магии нет, а социальная структура имеется, вполне реалистичная. Во всяком случае, на первый взгляд. Смотрим далее.
И тут, полагаю, следует вспомнить о том, что изначально сказки появились как реакция на сложность и несправедливость жизни с её тяготами. В сказках люди пытались компенсировать удары судьбы, придав устройству мира некую «чувствительность к добру». Вознаградить хороших, наказать плохих. Причём подать это таким образом, словно награда и наказание являются откликом мироздания на нрав и поступки героев.
И этот момент – эта «чувствительность к добру» – сохраняется и в традиции литературной сказки. Да, современная авторская литературная сказка может быть и суровой, и жёсткой, и реалистичной в плане соответствия социальным установкам «настоящего» мира, и содержать боль и страдания… но в ней в какой-то момент проявится пресловутая «чувствительность к добру». Герою повезёт. Ему хватит сил, ума, таланта, помощи друзей и так далее. Я не любитель «роялей из кустов» – но уж если они где и приемлемы, так это в сказке.
Ну и опять же – возвращаясь к началу этого рассуждения – что находится в центре. Герои и их выбор – или структура мира, который их окружает, занимает равное место или превалирует.
Как вы понимаете, здесь уже границы размыты. Здесь многое зависит от точки зрения читателя.
И вот тут появляется перекличка с книгой «Путь Холлана», хотя чтобы её заметить, надо присмотреться. Финальный бой – да, он соответствует больше канонам сказки, чем реального мира, каким мы его знаем. Воплощение Зла лично выходит на битву с Героем, и от исхода поединка двоих зависит глобальный расклад сил… впрочем, тут это не столь прямолинейно; судя по последней главе, никакого «долго и счастливо» героям не завезли.
Ну так это современная сказка… в ней реалистичность и черты мифа перемешаны так, что выделить их нелегко. Зачем это делать? Да собственно, мне просто стало интересно найти тут и другие детали «сказочности», а заодно поделиться этими изысканиями с автором и читателями.
Думаю, многие из читавших скажут – ну какая тут чувствительность к добру, если самый лучший человек в этой истории давно погиб, причём жестокой, несправедливой смертью, которой он никак не заслужил, а мир (в лице автора) допустил это? Но тут, как я сказал выше, законы сказки работают не прямо и в лоб. Для начала, хотя князь и гибнет, но чудом – иначе не назовёшь – спасаются те, кого многие считают его наследниками, хотя шансов у них практически не было. Ложь отравила мир, но правда становится известна – пусть её не нашептали тростнику, но пожалуй, у тростника-то было побольше и шансов донести её до людей, чем у Холлана, и желания до них эту правду доносить.
Но если говорить о сказках, то стоит понимать, какая именно из сказок тут у нас имеется. И на этом месте я вспоминаю неведомо откуда вынырнувшего Иванушку-дурачка, он же Иван-царевич, он же – третий сын. Тот, кто считается простаком и неудачником, но по итогу им не является. Однако, спросят те, кто читал «Холлана», а возможно, спросит и автор, – какой тут третий сын, если Холлан один, и никаких старших братьев, родных или символических, рядом не видно?
Но как я сказал не раз, эта книга полна инверсий. И роль младшего брата тут играет тот, кто по возрасту старше прочих основных героев, но в душе, в глубине памяти, где прячется живой, чувствующий Холлан, – он всё тот же юноша семнадцати лет, который плакал возле умирающего князя, заменившего ему отца, а потом разрывался между горем, любовью и ненавистью к Илисару, посмевшему умереть, бросить его, заставить совершить пусть ложное, но предательство…
И вот если рассмотреть «Путь Холлана» как сказку о странствии Третьего Сына, то можно увидеть множество интересного, что под другим углом зрения не заметишь. Не берусь судить, что из всего, далее перечисленного, автором задумано нарочно, а что просочилось из подсознания, из изучения мифологических традиций и той огромной части опосредованно постигаемой нами реальности, обозначаемой как Мир Книг, где постоянно обитает любой читатель, тем более читатель сказок… но как я сказал выше, это просто интересно.
Почему? Ну хотя бы потому, что выделить характерные элементы сказки можно далеко не в любой книге. Даже знаменитый Путь Героя не в каждом литературном произведении явно прослеживается. Тут, кстати, его легко можно проследить, но – не всё сразу. Сказка.
Если не утыкаться в какую-то конкретную сказку и не ограничиваться народными, то эти самые элементы неминуемо будут размываться, трансформироваться, отклоняться к реализму (и соответственно, фэнтези) – в общем, сказки авторские не обязаны чётко следовать канонам, и более того, лучше и не надо, ибо прелесть в новизне. Но есть такие вещи, которые кочуют и по сказкам, и по схемам вроде Пути Героя (куда они, логично, из сказок и просочились). Ну например, те же три сына. Старшие должны совершить ошибки и не достичь успехов в своём начинании, хотя изначально сказки почти всегда предлагают нам поверить, что старшие сыновья умнее, успешнее и в целом способнее младшего. Но именно их очевидные достоинства могут их и подвести – такой вот поворот, тоже инверсия, но мы привыкли и даже ждём этого. Но часто ли старшие братья из сказок на самом деле обладают этими достоинствами – или это видимость? Ведь неумелость и неумность младшего брата тоже оказывается иллюзией.
А если не видимость и не иллюзия, но условие «двое неуспешны, третий победил» соблюдено? Хотя двое по факту обладают всеми предпосылками для успеха, а третий и правда наделён изъянами, которые вроде бы предрасполагают, чтобы он проиграл?
Это уже интереснее, согласитесь. И вдвойне интереснее, когда эта схема «отражается» ещё раз. То есть: мы видим людей, одарённых талантами и имеющих некое влияние, положение выше среднего, власть. Мы так их и воспринимаем: как людей значительных. Герои они или злодеи по тексту, но наши «старшие братья» притягивают внимание, мы от них ждём свершений… пока вовсе ни о каком «правиле двух и одного» не думая. Читаем, следим за сюжетом и постепенно понимаем, что значительность эта не без нюансов и дефектов. Но этим-то современного читателя не напугать – с дефектами куда лучше, ибо кому сейчас нужны безупречные, что со светлой стороны, что с тёмной.
Однако читаем дальше, и постепенно понимаем, что хотя показанные нам выдающиеся, неординарные люди и далеки от безупречности, и даже очень далеки – но тем не менее, они таки неординарны и способны на свершения. В них есть и величие, и сила духа. Хотя мы-то уже вроде привыкли считать их ну так, на троечку. И тут упс.
Но самое дивное получается, когда ты всё это дочитываешь, а потом понимаешь: а ведь это самое «на троечку» – верно тоже. И бывают такие персонажи, которые одновременно и на троечку, и ого-го. Причём я имею в виду и пресловутую силу духа, и ум, и устремления, и доблесть, само собой. И верно как утверждение, что в их достоинствах и кроется причина их неуспеха, – так и утверждение, что успеха-то они, тем не менее, достигли. А при этом проиграли, да.
И выиграли, да.
Если это не инверсия, то я даже и не знаю, что ею называть)
И нет, это не словоблудие, а описание конкретных героев конкретной книги. И это как раз наши трое условных «братьев». Двое из которых позволили своим достоинствам стать путями к своему поражению, а третий, как по канону сказки и положено, – наоборот.
А что наоборот? Не позволил? Или слабости свои сделал путём к успеху? Или и то, и другое? Или это были не слабости вовсе, а у первых двоих достоинства лишь таковыми казались?
И снова мы видим инверсию: если почти сорокалетний Холлан внезапно оказался в роли «третьего брата», то те, кого я вижу в роли двух других – на самом деле не старше, а значительно младше его.
Внимание, спойлеры! Просьба промотать или прочесть и быстренько забыть. Тем более, если вы книгу не читали, то забыть рассуждения о каких-то незнакомых людях будет проще некуда)
То, что горит в тебе, пожирает слишком много сил, чтобы ты обращал внимание на то, что творится снаружи
Алуин, представитель Порядка (суровая полицейская организация, которой люди опасаются, ибо Порядок беспощаден, а кары тут жестокие, от отрубания частей тела до виселицы). Порядок следует закону, он справедлив и лишён милосердия… но тридцатилетний Алуин ещё и жёлтый куритель – наркоман, который под воздействием наркотика превращается в садиста. Его можно было бы назвать проходным персонажем – появляется он совсем ненадолго и быстро уходит со сцены, однако делает это ярко и трагически. А перед тем относит себя и Холлана к одной категории, заявляя: «Я вижу тебя насквозь. Я научился отличать таких, как я». После его гибели проводит аналогию и монашка Шелли:
Интересно то, что вы оба рисовали карты. Алуин, несчастный мальчик, нашёл дорогу домой в последние минуты жизни. А где ты потерял свой путь, Холлан?
Алуин остаётся почти тайной, и даже когда мы слегка заглядываем в его историю – юноша-полукровка из богатой семьи, очевидно, избалованный и привыкший к роскоши, который ищет себя на пути воина, потом защитника порядка, а потом отчего-то падает в наркотическую тьму – ответа мы не знаем. Сам Алуин говорит Холлану лишь одно:
В тебе есть и то, что сгубило меня – чувство справедливости.
Что за событие за этим стоит, останется тайной, но потом другой представитель Порядка скажет: «Он всё же был исключительно талантлив, хоть и идеалист до мозга костей». Идеализм и стремление к справедливости… даже без пояснений можно вообразить, как эти качества приводят молодого воина, с детства стремящегося к совершенству, – на путь курения жёлтой агонии, ухода от мира живого в мир грёз, после чего в реальности курители, кроме чужой боли и страха, «больше ничего не чувствуют».
И хотя я не могу согласиться с теми читателями, которые увидели в образе Алуина вариацию самого Холлана, всё-таки люди они разные, были и есть, – но если рассмотреть этих людей в контексте Странствия Трёх Братьев, то аналогия оправдана. Алуин – Алан Линн – гордец и перфекционист, и шагая на путь борца за свои идеалы, он сдаётся несправедливости мира, не имея душевных сил найти с нею компромисс, оставшись человеком. Он выбирает забытьё… при этом зная о побочных действиях наркотика. Возможно, именно гордость подталкивает его к вызову: слабые люди сдаются жёлтой агонии, а он устоит. Собственно, он и говорит это Холлану: «Не думай, что я ослеплён агонией, я холоден внутри». Он произносит это с сарказмом, но за этим стоит искренняя потребность убедить человека, схожего с ним, собрата по духу, что он не сдался окончательно.
И когда затем он говорит: «То, что горит в тебе, пожирает слишком много сил, чтобы ты обращал внимание на то, что творится снаружи. Отвлекись от своей внутренней войны» – отчасти это обращение к самому себе, но Алуин прав, описывая Холлана таким. Точнее, прав в том, что Холлана таким видят те, кто знает его историю, и возможно, именно таким видит себя он сам.
И следуя по этому пути – уходя от того, что творится снаружи, в мир внутренней войны, в то, что горит в нём и годами заливается алкоголем – Холлан и правда является Алуину «братом». Однако тот и неправ, поскольку наёмник открывается миру – пусть через силу, матерясь, не желая того, но он всё-таки обращает внимание на реалии мира. И людей, живущих в нём.
В итоге мы видим человека, который горел идеалами и шёл за справедливостью, но не умел видеть в мире не только чёрное и белое, а возможно, не умел и сострадать, и это завело его в морок зависимости… однако, как бывает и в сказках, он проигрывает не полностью, успевает в последний миг найти себя. И тем самым невольно остерегает от такого пути «третьего брата».
Скажи мне, чего ты хочешь, и я продам тебе это.
Маарсуун, глава возрождённой Лиги
Никаких линий. Никаких карт. Никаких планов. Хотя бы на мгновение. На час. На год. На жизнь. Он обещал себе время — сколько понадобится. Но был не в силах выполнить собственное обещание.
Марсен, он же Маарсуун, появляется на пути Холлана уже в начале книги – опосредованно, по рассказам других персонажей. Затем Холлан встречает его уже во плоти, и далее Марсен не сходит со страниц вплоть до финала, становясь одним из «главного круга» героев. Тут тоже сплошь спойлеры, предупреждаю… а также много-много букв, поскольку герой меня зацепил, а это значит, грядёт сеанс психоанализа… надеюсь, всё-таки в рамках концепции сказки)
Марсен – потомственный воин. Сын женщины, возглавлявшей Лигу – военную организацию, разбитую и запрещённую больше десяти лет назад. Человек, который прославился как «легендарный мальчик-воин», сражавшийся наравне со взрослыми в двенадцать лет. Персонаж непростой (впрочем, как и все здесь), и дружбы у них с Холланом не возникает, хотя на первый взгляд предпосылок к тому немало. Ведь сходства у них куда больше, чем у Холлана с Алуином. Оба росли в неспокойные времена, готовясь воевать, и беззаботное детство вряд ли могли бы даже вообразить. Оба сформированы сильными личностями – Холлан князем Илисаром, Марсен матерью – и несут образы этих людей по жизни спустя годы после того, как те погибли. А вернее сказать, что Илисар и Маара ведут их и направляют, сопровождая неотступно… и мешая определиться с собственным путём в жизни и повзрослеть.
Впрочем, «взрослый» – термин расплывчатый. Марсен – капитан возрождаемой им Лиги, стратег, и как сам себя зовёт, торговец – вряд ли согласился бы, что он не повзрослел. С его точки зрения, полагаю, он ребёнком и вовсе не был. Холлану повезло больше, ему детство всё-таки перепало. Да и шанс вырасти тоже: его приёмный отец, князь Илисар, постоянно подталкивал юного Холлана думать, принимать осмысленные решения, «самому выбирать свой путь, слушая своё сердце».
А Марсен, из которого слепили Идеального Воина уже в двенадцать, детства лишён – об этом в книге не сказано прямо, но впечатление складывается вполне отчётливое.
Мара, или Маара – «солнечная», Маарсуун – «освещённый солнцем»
Значение имени второго из «братьев» – важный момент, который мне представляется определяющим в характере этого персонажа. Маарсуун, он же Марсен, существует в лучах деяний своей матери. Почти все, впервые говоря о нём, зовут его «сыном Мары», и похоже, что им он и остаётся – не только в глазах окружающих, но и в собственных. В его мысли автор нас не пускает, а по поведению Марсена сложно сказать, сколько в его выборе пути собственно выбора, сколько в показанной нам личности – его самого. Но и его поступки, и предыстория – всё говорит о том, что «выбирать свой путь, слушая своё сердце» ему никто никогда не предлагал и вряд ли он это умеет, да и сам этот подход наверняка его очень удивил бы.
Марсен показан человеком рассудка, а не сердца. Он зовёт себя торговцем, поскольку следует за выгодой, за расчётом. Хотя понятие о выгоде у всех разное, и цель Марсена – возродить запрещённую Лигу и усмирить жестокого Серого князя, захватывающего всё больше земель, – кажется достойной. Как и его аргументы: в редких разговорах с Холланом Марсен предстаёт человеком бескорыстным, которого понимаешь, сочувствуешь и желаешь его планам успеха. Он, а не Холлан, кажется правым в коротких столкновениях, когда Марсен пробует расшевелить наёмника, вытащить из кокона отстранённости и воспоминаний и побудить к действиям, а тот остаётся за своей стеной и уходит.
Но и Марсен отстранён и далёк от жизни во всей её полноте, хотя это не бросается в глаза и проявляется исподволь, штрихами. И тут тонкий момент... и я позволю себе провести аналогию с героем другой книги о завоевателях и борьбе за свободу – одна из моих любимых, «Тигана» Гая Гэвриэла Кея. Расчёт, долговременные планы, готовность к жертвам… Алессан, принц покорённой страны Тиганы, тоже соответствует этой схеме. Принц, потерявший отца, братьев и саму возможность назвать своё имя, так как его не услышат, почти двадцать лет странствует по маленьким странам полуострова, по крохотным шагам со скрупулёзной точностью подготавливая план свержения завоевателя-колдуна. Алессан сам характеризует свои действия как «холодный расчёт», он осторожен, и хоть свои схемы не рисует на земле, но тоже «продаёт надежду». Он тоже музыкант, и незаурядный. Даже его инструмент, свирель, вызывает мысли об аналогии с Марсеном и его флейтой.
Но именно на сравнении видно, что сосредоточенность на цели, погружение в задачу полностью в ущерб радостям и теплу жизни обычного человека – не отрицает тепла в сердце. Не обязательно превращает его в лёд, а самого человека – в логика без чувств, мыслящего лишь категориями пользы и выгоды. Скрывающийся изгнанник Алессан умеет быть другом, любить, сочувствовать, смеяться; он не закрыт от тех людей, что разделяют его стремление, а они глубоко небезразличны ему.
Марсен – другой. Хотя он очень молод, но закрыт почти наглухо и от читателя, и от прочих героев. Что происходит в его душе, мы не знаем и можем лишь догадываться; закрытым он и останется – если не считать «голоса» его поступков. Но тепла и сопереживания тут нет абсолютно, даже намёком.Если подумать, не так часто литература о войне достаточно прямо ставит вопрос о конфликте «разума и чувств», если речь не идёт о героине – как правило, юной деве, которая выбирает между долгом (по отношению к семье, стране или навязанному ей по расчёту супругу) и любовью (как правило, запретной ввиду происхождения или социального статуса возлюбленного). Здесь, кстати, героини такой нет, и это тоже не очень-то обычно – если исходить из традиции романа. А вот пресловутая сказка вполне может не затрагивать тему романтической любви; ряд сказок повествует об удачливости героя, обретении места в жизни, борьбе с несправедливостью и т.д.
Но когда речь идёт о мужчине, военном, имеющем статус лидера и возглавляющем движение за некую Цель (поскольку речь о герое, то Цель условно благородная и подразумевает пользу не только для героя лично, но и для его окружения, которое он и организует на бой или стремится защитить) – в этом случае победу рассудка над какими-либо чувствами принято считать нормой и даже превозносить. Мир литературы в общем и целом предписывает мужчине-воину на чувства и эмоции не отвлекаться. Они ещё относительно приемлемы в мирное время, когда речь об отношениях с женщиной, родителями или детьми; но едва герой выходит за рамки сугубо личного в большой мир, полный интриг и сражений, ему ненавязчиво советуется оставить всё нерациональное за бортом и заниматься серьёзным мужским делом: битвой с драконами, захватом тронов, победой тёмных властелинов… и заниматься всем этим с холодной головой и трезвым рассудком.
И навскидку вспомнишь не так много книг, где бы затрагивалась тема воздействия на героя всех этих деяний и побед. Собственно, далеко не каждый писатель вообще оставляет читателя с победившим героем на срок, достаточный для подобного анализа. Здесь, кстати, этого нет тоже – финал у книги открыт, и дальнейшие судьбы героев неясны – да и вообще автор немногословен и не склонен к отвлечённому анализу. Мы видим события глазами Холлана, человека вовсе не философского склада, который замечает многое, но редко облекает увиденное в слова. Но – снова возвращаясь к структуре сказки, притчи – тут мы наблюдаем красноречивый язык действий и последствий, что наводит на мысли об извечном «что такое хорошо и что такое плохо», хотя книга и не предлагает ровно никаких ответов. Уж если говорить об ответах, то оценки читателями главного героя, Холлана, весьма противоречивы, что видно по отзывам. А других героев, которые представляются мне не просто объёмными и яркими, но и заставляющими тревожиться, приставать к автору и охотиться за разгадками в пространстве между строк, – кто-то не видит вовсе, ни как живых и активно действующих, ни как предлагающих читателю описанные выше сюжетные и хара́ктерные инверсии.
Но я отвлёкся. Речь о Марсене, «который любил чертить схемы палочкой на земле». Самый неоднозначный из персонажей, от начала и до конца. Холлан не верит ему, но Холлан не самый дружелюбный человек, сторонится всех и не верит почти никому, кроме детишек. Марсен не склонен миндальничать с Мили, но у него как у капитана Лиги хватает более важных дел, чем возня с детьми; да и сам Холлан со своим учеником не особо носится. Марсен явно одиночка, но тем не менее, у него вроде бы есть друг, есть родственница… Холлан более одинок: единственный более-менее близкий ему человек – Илисон, но настоящей близости или братской любви там нет, разве что привычка и сдержанное уважение. Марсен, дитя войны, сдержан и холоден, но мог ли он быть другим при его воспитании и отсутствующем детстве с матерью, которая «не разрешала называть её матерью при посторонних»? И когда в конце он принимает жёсткие и даже жестокие решения, то его логику можно понять: это война. Война требует жестоких решений… даже от достаточно хороших и добрых людей.
Но делают ли их эти решения плохими?Подобные вопросы не всегда хочется задавать, и если они возникают, то значит, герой вышел живым… и вышел за рамки повествования. Когда такое внимание притягивает не только центральный персонаж, но и «второй ряд», это много говорит об умении автора создавать реалистичные и волнующие истории – даже если речь о сказке. Впрочем, сказки во все времена затрагивали самые актуальные темы, пусть и завёрнутые в волшебную оболочку.
Самые яркие и «говорящие» моменты, связанные с Марсеном, – это история с княжной Милифри и ряд попыток достучаться до непробиваемого Холлана. И тут снова будут спойлеры, ничего не поделаешь. Тут интересны моменты зеркальности – Марсен и Мили, Холлан и Базиль, две пары учитель/ученик – и собственно, отношения двоих людей, которые оказались на одном пути отнюдь не случайно, хотя весьма долго Холлан думает иначе. Двух детей войны, которых она сделала сиротами и забрала нечто очень важное – и поскольку я исхожу из концепции сказки, то вспомнить все мотивы, связанные с сердцем, обращённым в камень или лёд, – сердцем, лишённым умения любить, – вполне уместно. Кстати, если говорить о куске льда вместо сердца, то это вполне подходит и Алуину, прибавляя ещё момент к взаимосвязи и сходству этих троих.
Это не моё сраное дело.
Холлан, Дом наёмников Акруса
Холлан считает, что юная княжна сбежала из дому за возлюбленным, и это создаёт проблему, ведь ему надо вернуть девушку отцу. Однако поведение девушки чем дальше, тем сильнее заставляет Холлана сомневаться в её романтическом интересе. Мили появляется в роли ученика воина – и им остаётся. Собственно, она вполне могла бы быть не дочкой, а сыном князя в этой истории – подростком, увлечённым романтикой не любви, а доблести и сражений. И если говорить о сказочных ролях, то в чём задача ученика? Если он сам не занимает место главного героя, значит, проясняет характер героя – своего наставника — помогая ему определить жизненный путь, понять самого себя, стать лучше или вспомнить себя-лучшего, повзрослеть. И хотя всё это можно отнести к ученику Холлана Базилю, но если присмотреться, то больше эта роль подходит, как ни странно, княжне-беглянке Милифри. Она куда более типичный Ученик, причём сразу для двоих мужчин: Марсен её официальный наставник, но и Холлан оказывается её учителем, и успешным: именно он преподаёт юной ученице самые важные уроки — как в плане воинского дела, так и в целом предназначения, выбора своей дороги в этой жизни. Недаром финальное становление Мили как воина тесно связано не с Марсеном, а с Холланом, это ему она помогает, перешагивая свой страх убивать. И возможно, именно на его примере понимает, что путь воина — не единственный способ проявить отвагу… а сам Холлан понемногу вылезает из своего панциря, присматривая за Мили уже не как за княжной, видя в ней не задание наёмника, а просто подростка, полного энтузиазма, но совершенно не знающего жизни и себя… каким был когда-то и он сам.
И тут снова вспомним об инверсиях этой книги. Роль Ученика достаётся «деве в беде», чьё место остаётся незанятым (и в итоге любовной линии тут вовсе нет), а вот ученик – Базиль – оказывается в другой роли, которая обычно перепадает мудрым старцам или волшебным существам, а именно – роли Проводника. Проводник отличается тем, что знает больше героя; он осознанно подталкивает и направляет его. Зачастую в сказках Проводниками оказываются волшебные существа; ими могут быть звери или птицы, которых герой спасает, а потом они помогают ему. И хотя сперва четырнадцатилетний сирота Базиль вовсе не кажется подходящим кандидатом в Проводники для Холлана – взрослого дяди под сорок, отлично умеющего себя защитить и не желающего никаких проводников (и учеников тоже) – но постепенно становится заметно, что Базиль и впрямь потихонечку влияет на Холлана, подталкивая к переменам. Базиль произносит фразы, которые оказываются опорными в пути Холлана к самому себе… тому юноше, немногим старше Базиля, который потерял наставника и самого себя, застряв на одном месте. Базиль с этого места его сдвигает, подталкивая не столько по следам Милифри, но по следам того далёкого юного Холлана.
А Милифри – ученица воина, которая обнаруживает, что в людей стрелять неспособна. И её роль Ученика – сперва ученика Марсена, потом Холлана – проявляет их, высвечивая тот самый «путь трёх братьев», который кто-то, по канонам сказки, проходит, а кто-то нет. Марсен отлично умеет стрелять в людей и не видит тут проблемы – и не смог увидеть её у Мили, проиграв и как учитель, и как человек. Холлан видит – и понимая, что суть не в страхе боли и смерти, а в страхе убить живого человека, советует девушке сойти с пути воина Лиги и вернуться к мирной жизни. Для Марсена она становится воином формально, на словах, на ярмарке читая наизусть Покаяние воина. Для Холлана она становится реальным спасителем в реальном бою.
И наконец переходим от учеников к учителю, к Третьему Брату этой истории. Холлан неоднозначен и считывается не сразу. Он резок, сух и подчёркнуто отстранён от возвышенных идей и тонких чувств, однако сквозь эту чёрствую корку то и дело пробивается неравнодушие к участи людей, встреченных на пути, сдержанная ирония, внимание к деталям, даже сентиментальность иногда. Холлан-наёмник – парень простой и грубый… настолько, что в какой-то момент возникает мысль, как хорошо он слепил эту маску. Поскольку есть и второй Холлан – мелькающий в воспоминаниях мальчишка, остро тоскующий по названному отцу и неспособный простить его.
И хотя из этих воспоминаний мы узнаём, что мальчишка какое-то время был рабом, да и после освободивший его Илисар в сложной для юноши ситуации говорит ему «Это путь раба», заставляя мучительно думать о различных путях и искать собственный, – но если посмотреть на путь Холлана внимательно, то получается, что по пути раба он не шёл никогда. Ершистый дерзкий паренёк, своевольный подросток, упрямо пытающийся пережить свою трагедию юноша, сменяющий одного мастера боя другим… и спустя много лет – угрюмый желчный мужчина, который свёл свою жизнь к нехитрой формуле: выполнить задание, получить деньги, пропить деньги, получить новое задание и так по кругу. Но всё это, все повороты своего пути, Холлан выбирает сам. Он буквально шарахается от любой ситуации, которая чревата принуждением, отказом от самостоятельного выбора – пусть ради самых благородных с виду целей.
Друг и учитель Холлана, князь Илисар, не сам вылепил из маленького раба свободного человека – он разглядел эту упрямую страсть к свободе и дал ей выход. Символично то, что он возвращает Холлану его настоящее имя – но мальчик-то ведь помнит его и воспринимает жест князя как нежданный дар, за который даже стоит пресловутой свободой поступиться (чего Илисар не одобряет, подталкивая парнишку к осмыслению такой штуки, как свобода). На контрасте мы видим Илисон, чья судьба до трагедии была почти той же, что у Холлана (которого она зовёт братишкой): несколько лет детства со знаком раба и чужое имя, потом освобождение… но в отличие от «братишки» Илисон прежнего имени не хочет, говоря, что не помнит его. Так или нет, мы не узнаем. Но и тут мы видим характерное для сказок сравнение: двое детей, два имени, два решения. Холлан всегда носит своё собственное имя, и это мне представляется важным аспектом в его характере и всех дальнейших его решениях.
Вообще имя в сказках – штука важная. Зачастую оно само по себе обладает силой (у Ле Гуин в «Земноморье» имена являлись заклинаниями, а в упомянутой прежде «Тигане» завоеватель-маг стирает название страны из памяти людей, и когда её уроженцы это название произносят, их никто не слышит – зримый символ порабощения). Символика истинного имени обыгрывается во множестве историй по одному лекалу: оно обладает бесспорной, почти сакральной важностью.
И здесь мы видим интересный момент. Кто носит истинное имя? Алуин – изменённое «Алан Линн», под этим именем талантливый молодой воин становится наркоманом, под ним и умирает. Марсен – искажённое «Маарсуун», и к этому искажению герой привык – во всяком случае, так и зовут его почти все, начиная с Милифри, которая наверняка бы знала, если бы этот испорченный вариант наставнику не нравился. Илисон – сама решила принять имя, данное ей старым князем… но это имя неразрывно связано с рабством.
Даже Базиль, персонаж бесспорно светлый и указывающий путь, – и тот носит имя-прозвище, полученное от лесника; своего настоящего имени он и не знает.
А вот Холлан – и знает, и ещё крохотным ребёнком прилагал усилия сохранить в памяти и его, и лицо матери.
Путь Холлана – не путь раба, который ценой испытаний обретает истинную духовную свободу. Это путь человека, изначально свободного, который ищет способы свободу свою сохранить. И мне кажется, книга ставит вопрос о том, какие способы допустимы в этом поиске, а какие могут привести к свободам ложным: иллюзорное освобождение наркомана или холодная свобода человека, выбравшего путь одиночества, рассудка и «схем на земле», которые он уже не может не рисовать… фанатично мечтающая вернуть славу своего племени Илисон, которой, казалось бы, никто не указ, по сути несвободна тоже: она заложница Идеи, которая подчиняет её жизнь постулату «цель оправдывает средства» и в итоге убивает её.
Кстати, о жизни и смерти Илисон тоже можно сказать немало; символичности хватает и тут. В определённом смысле она – отражение Марсена… интересно, напоминала ли она ему мать и была ли Маара на неё похожа. Но как мать Илисон определённо похожа на ту, кто способен вылепить бойца из двенадцатилетнего ребёнка. Обратим внимание, что она запрещает сыну звать себя мамой, как и Маара. Смерть Илисон куда более многозначительна, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, причина – запретное оружие, пистолет, который она сложнейшими (и весьма циничными) ухищрениями протаскивает с островов. Зачем, вопрос хороший. Его и Холлан задаёт:
– В кого ты стрелять собралась?
– Да может, и ни в кого. Но так надёжнее.
Илисон мыслит исключительно с позиции силы и расправы с несогласными. Ей мало вернуть утраченное племя; ей нужно «диктовать условия и добивать». Но тогда… так ли она отличается от Серого князя? И тот, кто убивает её, так ли ужасен и неправ? Разумеется, если такой путь решения проблем, как убийство, вообще в рамках данной истории актуален.
И во-вторых, то самое сходство с Маарой. Было ли оно замечено и сыграло ли свою роль? Вполне возможно. В конце концов, это могло быть неосознанным – именно такие бомбы, скрытые в подсознании, и приводят к импульсивным поступкам, а убийство Илисон мне видится именно импульсивным. Так это убийство Илисон – или вместе с нею и другой женщины, которая тоже запрещала сыну звать себя мамой?
Не менее интересным мне кажется один из ведущих моментов сюжета, а именно обучение Милифри как воина Лиги, которое Марсен объясняет Холлану очень просто:
мне пришло в голову, что раз я справился с воссозданием Лиги, то смогу легко сковать из княжны воина.
Звучит так забавно и по-детски, что ему даже веришь: для капитана Лиги, главы заговорщиков и составителя серьёзных планов, каким себя позиционирует Марсен, куда больше подошёл бы ответ посолиднее, включающий часть схем из тех, что он так любит чертить на песке… то есть на земле, но аналогия напрашивается (и красноречивая). Но вместо этого он говорит нечто наивное, подразумевающее импульс, мальчишеский каприз. Это посреди-то сложного заговора… и тем более, это он говорит Холлану – крайне важной для заговора фигуре, неуловимому и чуть не матом отвечающему на попытки контакта Холлану – который в кои-то веки пришёл к Марсену сам.
И хотя эту импульсивность можно списать на тонкую игру Марсена с Холланом (сложные схемы с ним не пройдут, а вот наивность может сработать) – но мне кажется, Марсен мог попросту сказать правду. Как сам он её понимал. Но понимал ли правильно? И тут снова вспомним «сына Маары». Марсен молод, 24 года – самый возраст для отваги, высоких идей и сражений… и любви, но чувства у него к Милифри нет. Такое впечатление, что эта сторона жизни – любовь, романтика, страсть – вовсе его не занимает. У Холлана появляются хотя бы единичные увлечения; у Марсена, кажется, нет никаких. И это, в общем, понятно, если вспомнить его детство. Мать, которая возглавила военную организацию и растила сына воином чуть не с пелёнок, вряд ли могла создать у него романтический образ девушки. Марсен далёк от мирной жизни, со свиданиями, влюблённостью и теплом домашнего очага; он одинокий странник, и его целей мы не видим (нам не показывают), но финала там словно и нет. К чему он стремится? К трону, правлению? Непохоже. К победе ради победы? Но всегда останутся те, кого требуется побеждать… Одним словом, любовный союз тут не к месту. И тайной увлечённости красивой юной княжной тоже нет. А что же есть? Что могло стать стимулом для импульсивного (и непрактичного) решения «сковать из княжны воина»?
