Рецензия на роман «Сын детей тропы»
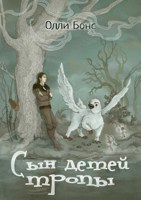
Оригинальное фэнтези с индейцами, эльфами, нежитью, грифонами и двухвостыми лисами?
Немного не так.
На деле тут действительно достаточно оригинальное фэнтези со своим пантеоном из пяти богов, с тремя "племенами", с замысловатым животным миром.
С другой стороны естественно у читателя будут ассоциации: племя детей тропы, вплетающих перья в волосы, чем-то напоминает индейцев, чем-то спартанцев, двухвостые звери — рыжухи кого-то напоминают и повадками и рыжестью...
С третьей стороны это книга о и любви — это не любовный роман, но тема любви, тут не на последнем месте. Любви не той, банальной заканчивающейся сексом, а той, что проявляется заботой, готовностью идти на жертвы.
С четвёртой стороны это книга о конце времен, о том как люди его встречают. О том, остаётся ли надежда после смерти.
С пятой стороны это ажурная сюрреалистическая вязь образов и слов, когда, например, ветер в воображении людей предстаёт зверем, когда на словах, а когда ветер и является зверем, спущенным пятикрылым богом с привязи.
Тут кстати пять богов: одноглазый (ночь или месяц), двуликий (солнце, огонь), трёхрукий (удача), четырёхногий (вода?) и пятикрылый (ветер).
Книга не ласкова к читателю, она не будет ему ничего объяснять. Она как бывалый путник просто начинает рассказ, а читатель либо готов внимать, подмечать нюансы, закономерности, либо она слишком сложна. Она обрушивает упоминания богов, живности, традиций, норм, разной морали. Причём всё это перемешано, искажено восприятием персонажей. Здесь не будут говорить - убьют, а скажут отправят к ушам богов. Здесь не восходит солнце, а идёт двуликий с его фонарём. Причём идёт иногда буквально.
Так что читателю есть к чему приготовиться.
Сюжет тут не так уж сложен, если его очистить от здешней мифологии, то он вертится вокруг одного артефакта, который обладает силой или проклятием. Как посмотреть.
Сюжет нарастает плавно —- ещё бы, читателю сначала приходиться привыкать к окружению. Сначала к племени "детей тропы", кое похоже (я кажется уже говорил) внешне на индейцев, а нравами на спартанцев. Потом на контрасте читатель привыкает в нравам здешних людей ("детей поля"). Потом в сюжете появляются "дети леса", напоминающие и нравами и чем-то ещё эльфов (но не ушами).
Где-то спустя пяток глав от начала, на фоне личных проблем главного героя, проносится первый слух, об основной внешней проблеме. Потом она нарастает и вот в 12-й главе уже даже читателю понятно, что за голоса слышит Нат. Но только в 17й главе об это узнают персонажи... Это, наверное, единственный случай недогадливости персонажей, хотя, опять же, это лишь я не люблю подобное. В остальном же сюжет надеется что читатель внимателен и есть поведение персонажей резко меняется, то этому есть объяснение раньше — никто не будет снисходительно разжёвывать, что случилось. Потом может объяснят, но потом.
Однако, внешние проблемы всё же внешние — они спускают сжатые пружины внутри персонажей. И в этих пружинах основная суть книги. В том, что главный герой был изгоем по нравам племени, и почему был - здесь не тяжёлое дество ради слезодавилки, здесь противостояние старых законов племени и чуждого им характера. В том, как меняется обычный пройдоха (хотя если вспомнить сцену с первым выступлением - то он скорее раскрывается), под воздействием обстоятельств и в том кем он стал, с кем он встал в один ряд.
Отчасти из-за этого теряется сюжетная хватка произведения и вот читатель в финале задаётся вопросом - а к чему была та история про "проснутся"? К чему было то светопреставление? Может текст объяснял, но я пропустил.
Но на фоне общей сложности образов и связей, на фоне того замысловатого узора текста, когда инаково, но в тоже время понятно описывается восход, когда читатель "видит" красный дождь, то обагрённый закатным светом, то неуловимо превращающийся в багровые потоки. На этом замысловатом фоне эти вопросы не так уж терзают.
ps. Хотя я не понял, что они называют холмом, неужели просто холм? Я весь теразуюсь этим вопросом 8).
