Рецензия на роман «Солнце над фьордами. Путь к зениту»
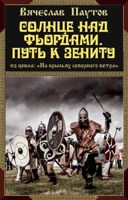
Впервые открыл «Солнце над фьордами», когда мельком просматривал список участников конкурса «Фантастический прорыв».
Открыл и закрыл. Текст навскидку казался проработанным с душой, но при этом стилистически усложнённым и высокопарным по сравнению с быстрыми, словно летящими, историями современной развлекательной литературы.
Вернулся к роману немного позже, когда разыскивал что-нибудь необычно-интересное «на почитать» и зацепился взглядом за один из блогов автора. Начал, и ко второй главе вспомнил, о чём напоминает книга. Об исторических романах второй половины двадцатого века, которыми увлекался в детстве, о «Повести временных лет» или «России молодой». Вспомнил о том «подвиде» литературы, в которой события прошлого, детальнейшие описания быта и природы, реальные исторические персонажи не фон для приключений лихих авантюристов из «Трёх мушкетёров», «Анжелики» или «Королевы Марго», а наоборот, главные действующие лица.
Не скажу, будто сегодня я причисляю себя к ярым поклонникам «классической исторической литературы», но… наверное, понимаю авторов, которые её пишут. Доводилось встречать любителей «исторической реконструкции», а потому знаю, что для них изменить хотя бы пуговицу на мундире наполеоновского офицера или форму шва — уже преступление. Так и в «Солнце над фьордами»: пространные описания быта, природы, или внешности персонажей с детальным перечислением облачения конунга на всю страницу — вполне релевантны выбранному жанру и стилю повествования. Стилю скандинавской саги, а потому уже к третьей главе претензии к излишнему вниманию к «мелочам» почти сошли на нет. Пришло время следовать за сюжетом.
История разворачивается в Норвегии девятого века нашей эры. Страна раздроблена на множество областей со своими конунгами, ведущими когда открытую, а когда подковёрную борьбу за власть над Северным Путём — западным побережьем Скандинавии.
Сравнительно молодой конунг Хальвдан Чёрный подумывает о возврате территорий, когда-то принадлежавших отцу, но захваченных соседом — престарелым Гандальвом Айвгерссоном и его сыновьями. В свою очередь, тот мечтает о землях соперника, а потому первая треть романа богата на интриги, шпионаж, заговоры, предательства, битвы, засады, набеги викингов и абордажи драккаров.
Персонажей немало, они разные, как по статусу, так и по роду занятий. Здесь и великие конунги, и мелкопоместные ярлы, и предводители наёмников, и соглядатаи, и кузнецы. Впрочем, предпочтение отдаётся людям, определяющим чужие судьбы, а потому скучать не приходится.
Вторая треть (начиная с прибытия Фредерика в Агдир) в большей степени посвящена как историям «простых людей», так и неспешной подготовке к предстоящей следующим летом «большой войне». Здесь пружина сюжета провисает, словно автора увлекли этнографические зарисовки, а не хитросплетения интриг. Вместо подробнейших описаний застолий, врачеваний или охоты я бы оживил действие парой эпизодов с интригами того же Хакона, а то этот колоритнейший шпион словно бы испаряется из повествования.
С другой стороны, в этой трети особенно «звучит» мистико-магическая сторона истории, где боги временами прислушиваются к просьбам жрецов и ведунов, а видения пусть и вызываются «грибной настойкой», но исключительно правдивы; где посланный Асами «золотой» кабан спасает зазевавшегося охотника, где Тор и гномы во сне раскрывают секреты кузнечного мастерства и помогают создать особый меч, а Один возвращает человека к жизни чуть ли не из костра погребальной ладьи.
В заключительной же трети (начиная с весны) роман вновь приобретает эпический размах, судьбы таких разных героев постепенно сплетаются в один гобелен, чтобы не много ни мало определить судьбу Норвегии. Решить, будет ли это полноценное государство, опирающееся на зажиточных бондов-землевладельцев и торговцев, либо так и останется сбродом из мелких ярлов, которые только и могут, что ходить в «викинги».
В книге не так много элементов, над которыми я бы сам ещё поработал. И, по большей части, они «технические».
В первую очередь — имена. Думаю, на пользу удобочитаемости (пусть и в ущерб исторической действительности), пошло бы активное использование прозвищ или кратких имён вместо трудновыговариваемых «-ссонов».
Не стоит по много раз на главу, особенно в диалогах, повторять бесконечные именования вкупе с титулами — убивает динамику, нагнетает лишний пафос. Каждый раз в одной и той же сцене(!) писать не просто Гандальв, а «конунг Гандальв Айвгерссон», не просто Хакон, а именно «Хакон Глаза Рыбы» — избыточно. Утяжеляет историю, словно несёшься не по автостраде, а по просёлочной дороге, подскакивая на ухабах. К середине романа к такой подаче привыкаешь, но поначалу она затрудняет чтение.
Другой момент — лишние сноски, вставленные к месту и не к месту. Как пример — абордаж драккара, который прерывается на полуслове в восьмой главе и продолжается в девятой (это нормально), но между ними ещё страница пояснений о наименованиях рабов, подвидах дружинников и родичей (для динамичной сцены это НЕ нормально).
Со сносками вообще отдельная «песня». Разумеется, в серьёзном историческом романе они уместны, но вот количество уточнений после каждой(!) главы в первой трети истории превращает книгу в полудокументальное произведение.
В сноски лучше отправлять только то, что невозможно «вскользь» обозначить в тексте. Чем давать наукоёмкое описание термина «трэлл», лучше однажды ввернуть: «Он приказал трэллу, безмолвному рабу, подать еду, а сам скинул мокрый плащ и устроился у очага». К «гридням», при первом упоминании, добавить «дружинники»; «драккар» в разъяснении не нуждается, а богом какой сферы является Ньёрд — без сносок ясно из текста. И так далее, и тому подобное.
Описания «областей» Норвегии и Швеции, уточнения их имён в нашем времени, лучше убрать из примечаний в конце каждой главы: на карте должны быть видны и названия регионов, и их географическое положение друг относительно друга. Читатель с первого раза всё равно не запомнит: какой район юго-восточнее Альвхейма, какой северо-западнее, а вот мельком глянуть на карту всегда проще, чем долго листать роман в поисках нужной страницы с пояснениями.
В крайнем случае, возможен глоссарий в конце романа, но не после каждой главы, где пояснения словно пыточными щипцами разрывают плоть истории и выталкивают читателя из иллюзии в реальный мир.
И третий спорный момент — философские отступления, в которых автор даёт оценку действиям и выбору персонажей, разъясняет «что такое хорошо, и что такое плохо». Это не слишком уместно в романе для взрослой аудитории. Читатель сам делает выводы из поступков героев. Не дурак, сам разберётся: кто мерзавец по призванию, а кто из мелкой трусости.
В остальном, это классический исторический роман, стилизованная норвежская сага об интересной для меня эпохе: о сильных мужчинах и суровых богах, о жарких битвах и смертоносных интригах. Если автор прислушается хотя бы к части советов, книгу смело порекомендую читателю, который решил передохнуть от псевдоисторического эпического фэнтези и при этом готов к богатому на детали, но от того чуть более сложному для восприятия тексту.
