Рецензия на роман «Текст ухватил себя за хвост»
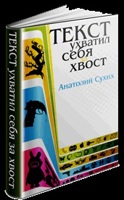
Вот когда, например, захочешь нетленку сочинить и человечество осчастливить, тогда оно ну никак. Фигня графоманская получается, а не нетленка. Нетленка по заказу не пишется.
Нетленка пишется в экстазе. Она как бы сама получается, ну или не получается никак. Она снисходит. И хоть ты тресни об лёд, никто никогда не знает, когда оно снизойдёт.
А если не снизошло, то продукт качественный, профессиональный, в смысле, если ты, конечно, профессионал, но не нетленка. А значит человечеству и вечности не нужный продукт, даже вредный. Потому что не нетленка. Потому что не в экстазе. Потому что не снизошло.
Вполне вероятно, что этот вопрос возникает абсолютно у всех читателей «Хвоста». Фигню ли графоманскую я читаю или нетленку? И определить это, если верить автору, ну совершенно невозможно. Потому что откуда мне, как читателю, знать, снизошло на него или нет? Да и даже если автор прибежит ко мне посредством современных коммуникаций и станет яростно убеждать, что снисходило, именно что снисходило – ну откуда мне знать? Может, ему только показалось, что снизошло, а на самом дле ничего и не было? Потому что на самом деле ничего и нет?
Ну и в общем-то так оно все и есть – не в смысле, что ничего нет (тут я утверждать не берусь), а в смысле, что проверить, нетленка это или графомань, невозможно никак. Метров нет, критериев нет, никаким прибором это непроверить – ну кроме времени. Время – это вообще самый надежный прибор. Потому что вечный. Как двигатель, ага.
Поэтому принятие или непринятие любого непроверенного временем текста – это вопрос доверия. Доверия меня, как читателя, к автору, что мое время, мои интеллектуальные, эмоциональные и даже духовные инвестиции будут оправданы, что в процессе чтения я что-либо получу взамен. Ну и собственно главный вопрос этой рецензии – а можно ли доверять «Тексту»?
Обычно в рецензии нужно говорить про книгу – ну там сюжет, герои, язык, идея...
Про сюжет уже героически написал Тим Вернер, я не буду повторяться – и только лишь замечу, что сюжет здесь, по правде говоря, не имеет никакого значения. Он мог бы быть вообще любым, и суть книги от этого не изменилась бы. То есть сюжет есть, со своей внутренняя логикой, пункт а, пункт б, локация, герои что-то делают – но вообще-то все главное происходит помимо сюжета. Части сюжетные перемежаются со сплошными лирическими отступлениями – авторскими и не очень, – и именно в этих лирических отсупления содержится вся идейная составляющая романа. Можно было бы провести интересную игру – убрать все лирические отступления и посмотреть, а чтобы тогда осталось. И вот,ей-богу, на мой личный читательский взгляд, это было бы не хуже. А может быть, даже и лучше.
Потому что, на мой взгляд, художественная литература на то и художественная, чтобы доносить смыслы через художественные образы. И благодаря этому человек, читающий художественную литературу в объеме необходимом и достаточном, научается видеть эти смыслы в образах повседневной жизни. Литература стирает грань между объективной реальностью, данной нам в ощущениях, и нашим собственным сознанием с его личными образами и смыслами, объединяя их в единую ткань метафорического восприятия окружающего мира (во, я тоже могу умно, если захочу. Ну или не очень).
В «Тексте» же, натурально, мухи отдельно, а котлеты – отдельно. То есть, вроде как оно и нет, вроде как лирические отступления относятся непосредственно к происходящему с героями, но относится оно все очень... опосредованно. И дело все в том, что только ты как-то начинаешь сживаться с героями и понимать, ху из ху и зачем вообще все, и тут снова влезает автор и начинает тебе про что-нибудь увлеченно втирать. Сначала слушаешь с интересом, хорошие мысли толкает чувак, пусть и не всегда свои. Но тут и впрямь пусть его. А мои мысли что, все мои? Проблема не в этом. Проблема в том, что большинство этих мыслей для меня достаточно очевидно. Поняв один раз логику рассуждений автора (а умному достаточно, хе-хе, чтобы понять ее достаточно быстро), дальше бесконечные повторения начинают надоедать. Они становятся бессмысленными и потому начинают утомлять.
И поэтому получается, что герои романа... В моем стихотворном отзыве они названы «немыми» (ну, там по ритму подходило), и, в принципе, именно такими они и ощущаются. Их фактически и нет, есть только их имена. Ибо говорит с нами – нет, не текст, как бы ни хотел этого автор. Говорит сам автор. Причем говорит даже тогда, когда ужасно хочется, чтобы он помолчал. Тишина порой говорит куда лучше самых прекрасных звуков – но тишины, передышки, паузы, чтобы осознать и оценить, автор не предоставляет.
И ведь автор умен, автор умен настолько, что при чтении приходится достаточно серьезно напрягать мозги, чтобы угнаться за его мыслью и правильно прочитать все аллюзии, отсылки, явные и скрытые цитаты, отыскать и оценить плагиат... В общем, упражнение весьма и весьма интенсивное. Но при этом, если продолжить спортивную аналогию – это не велосипедная прогулка, это интенсивная тренировка на велотренажере, лицом в стенку, с измерением пульса и заботливым автором тренером, который все время подсказывает, что нужно делать, чтобы мышечная масса наращивалась правильным образом. Ну и не забывает сам при этом поигрывать собственными идеальными бицепсами. Чтобы все помнили, кто тут качался дольше всех.
Автор, безусловно, владеет языком, но лично для меня в какой-то момент стиль становится скучным. Сначала он веселит и доставляет – а потом уже не очень. Потому что он одинаковый. Потому что нет всплесков, смысло-ритмов, интонаций. Где-то под конец, когда сюжет приходит к своей кульминации, они появляются – но этого слишком мало. Если бы не необходимость, продиктованная злой Марикой игрой 7х7, этот роман так и не был бы мною прочитан. И не вовсе не по той причине,на которую наседает автор, когда в очередной раз ударяется в писательское кокетство:
А если разницы нет, тогда берёте, и закидываете книжку под шкаф — там ей самое место.
Ну или закройте файл, или что оно у вас там, и сотрите его нафик, всё равно у нас с вами ничего не получится.
Стихи в эпиграфах – великолепны, ибо они точны, они – само острие той самой бритвы. А сам «Текст» вял, огромен и неповоротлив. В этом тоже могла бы быть своеобразная эстетика – если бы сам автор не претендовал на совсем другую.
Сон разума порождает чудовища. Разум автора порождает смыслы. Их много, они повторяются. В большинстве своем очевидны, но подаются так, как будто только автор догадывается, что они существуют. И в этом контексте становится непонятно, а к кому автор обращается? Ибо люди одного с автором интеллектуального уровня могут устать от сомна неприготовленных смыслов, которые они умеют готовить и самостоятельно, каждый на свой вкус и по собственному рецепту. Люди более низкого уровня просто эти смыслы не переварят, выплюнут и дальше пойдут.
Но у меня есть большое подозрение, что автор не обращается ни к кому. И это парадокс, ибо де юре автор чуть ли не в каждой главе взывает напрямую к читателю, заигрывает с ним, провоцирует его. «Закиньте эту книгу под диван», твердит он – милый архаизм эпои бумажных книг, но почему-то смотрится он не мило. Увы.
Вселенную спасаем мы с вами: читатель, автор и Текст. Текст сам выбирает себе читателя. Автора он уже выбрал, так что дело за малым
пишет автор в аннотации. Подразумевая тем самым, что такое положение дел – уникальная особенность именно этого текста. Но, по моему скромному мнению, это происходит с любым текстом. Любая книга существует в момент своего взаимодействия с читателем и только тогда имеет смысл. Любая книга – это Текст, который выбирает своего читателя. Выбор читателя, взаимопонимание читателя, текста и автора и последующий из этого катарсис – чудо, которое косвенно относится к появлению речи у первобытного человека, но вообще-то, на мой взгляд, распожено на иных уровнях и обусловлено отнюдь не только простой эволюцией и увеличением площади поверхности коры головного мозга в процессе нее.
Но любое взаимопонимание, любые отношения возможны при возникновении взаимного доверия. И вот тут возникает большой вопрос – а доверяет ли автор читателю? И мой ответ нет. Автор «Текста», как это ни странно, в читателю не доверяет и даже в нем нуждается.
Ибо любое доверие основанно на внутренней неуверенности. «Я не знаю сам – поэтому я доверяю тебе». Но автор текста все знает сам, опять-таки несмотря на постоянные заявления, что он ничего не знает. Текст ухватил себя за хвост, как змей Уроборос – это замкнутая структура, в которой нет места читателю. Удивительным образом та самая книга, которая позиционирует себя как книга-перфоманс, не взаимодействует с читателем от слова совсем.
Ибо читатель автору неинтересен.
А ведь искусство, на самом деле, есть ничто иное, как взаимодействие двух Я – автора и реципиента. Но возможно оно лишь в том случае, если автор расрывает реципиенту свою душу, оголяет свое Я. Иначе чуда не случается, взрыва не происходит. И если вместо души автор демонстрирует свой ум, получается интеллектуальный экзбиционизм. Смотри читатель, какой у меня большй... ум. Большой, тут не поспоришь. Но мне-то что с того?
Поговорить с умным человеком всегда приятно. Но если разговор превращается в монолог, невольно начинают возникать подозрения. Ибо умному человеку, обычно, совсем не обязательно демонстировать всем, как много он знает.
Текст требует бритвы Оккама. Текст требует очищения ото всех сторонних рассуждений. Текст требует оголения нерва, чтобы читатель имел возможность к нему прикоснуться, прочувствовать, прожить Текст и вывести из него свои смыслы. Тогда текст будет жить. Сейчас же он – мертв, погребен под рассуждениями автора, столь пространными и разнообразными, что суть их забывается тут же. Ибо грядут иные рассуждения, иные смыслы – а зачем? Для чего? Могила молчит, а на гранитной плите не осталось ничего, кроме вандалами написанного «плагиат».
Ну и вывод, какой из всего этого вывод? Выводов в рецензии обычно должно быть два – стоит или нет читать и что по поводу книги думает сам рецензент.
Читать? Если вы встали на путь самообразования и расширения сознания, тогда да. Тогда вам сюда. Поумнеете – не в момент, конечно, потому что в тексте очень много букв, но рано или поздно точно поумнеете. А если сознание у вас такое широкое, что уже в дверь не проходит – тогда, наверное, можно и обойтись. И почитать что-нибудь этакое. Но, с другой стороны, все этакое вы, наверное, уже прочли, так что можно и в «Текст» заглянуть.
А что думает автор рецензии кроме того, что выше уже написано, я не скажу. Потому тишина порой говорит куда лучше самых прекрасных звуков.
P.S. Хочу сыграть с автором в преферанс. А в шахматы не хочу, потому что.
