Рецензия на роман «Огонь сильнее мрака»
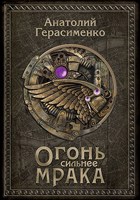
По-моему, хороший роман — он как клинок с очень широким у гарды лезвием и острым кончиком. Такой итальянский чинкуэда. В нём поднимается много непростых вопросов, в нём жизнь показывается с разных сторон, ему обязательно нужно много места, чтобы развернуться — но всё это в итоге сводится воедино, к одной финальной точке. А иначе удара не получится.
«Огонь сильнее мрака» — безусловно, очень хороший роман с несколькими смысловыми линиями, которые по ходу чтения сменяют друг друга на первом плане, а в итоге оказывается, что это всё было об одном и том же, просто ты неверно оценил масштаб.
Но для начала, как полагается — немного о собственно литературной составляющей.
Это одна из тех книг, где автору удалось нащупать тот самый Срединный Путь между развлекательной и интеллектуальной прозой. Написано действительно очень увлекательно. Произведение разбито на четыре истории, достаточно самостоятельных, для того чтобы повысить напряжение и динамику — и достаточно связанных, чтобы после очередной промежуточной развязки не отвлечься, а сразу перекинуть мостик к следующей части. Внешняя и внутренняя динамика наблюдается практически в каждой сцене. Я имею в виду — обе разом, а не по очереди. Что вообще очень здорово, потому что события в романе говорят сами за себя, и автору почти не приходится утяжелять текст излишней философией, а внутренние монологи героя бьют по читателю ровно тогда, когда читатель уже готов проникнуться ими на сто процентов. Тут ещё помогает фантдоп: в умелых руках это вообще мощная вещь. Когда он не просто для красоты и антуража, а для того, чтобы поговорить о чём-то важном. И конечно, все построения, работа над сюжетом и развитием идеи, были бы насмарку без языка. Очень понравилась подходящая под атмосферу романа стилизация под классиков — при том, что в общем и целом стиль и язык автора соответствуют, если можно так выразиться, современным стандартам. Язык гладкий, красивый и лёгкий. И да, я специально написала огромный абзац, потому что, во-первых, все упомянутые выше компоненты неотделимы один от другого, а расчленять что-то живое и обладающее душой нехорошо, а во-вторых, слава большим абзацам — иногда они просто нужны и всё тут.
О героях всё же скажу отдельно. Бывают герои очень яркие, раздираемые внутренними демонами и кипучими страстями — это хорошо, но совсем не обязательно. Шекспировская исступлённость не всегда уместна, особенно в крупной прозе. Джон, главный герой «Огня…» — человек простой, понятный, близкий нам и во многом рациональный, но тем острее его внутреннее противоречие, которое не выплёскивается, а бурлит внутри, постоянно подавляемое. Конфликт между любовью к людям, таким, какие они есть, и нелюбовью к ним, которая на самом деле есть не что иное, как та же любовь, требующая, чтобы они были лучше и чище — а они не такие. Конфликт между одним человеколюбием и другим человеколюбием (спасибо Софии за рецензию, натолкнувшую на эту мысль). И тогда выходит, логичнее всего выписать именно такого героя, очень человечного не только в положительном смысле слова, но и в нейтральном.
Интересна Джил — персонаж, олицетворяющий природное, естественное добро, вшитое в каждого человека так, что от него не отвертеться. Их взаимоотношения с Джоном во многом символичны. Кстати, мне кажется, это хорошо, что в книге нет по сути любовной линии — эта не та любовь, которая требует романтизации. Это когда был один призрачный шанс пройти мимо, а потом как-то внезапно человек становится неотъемлемой частью тебя.
Так вот. Я как читатель, просматривая свои «текущие» комментарии к роману, выделила бы три смысловых линии, три мотива, которые звучали ярче всего.
Тема внутреннего добра, тема счастья и тема тоски по золотому веку (она же — тема взаимоотношения людей с богами и столкновения мифологического взгляда на мир с рациональным).
О первом частично сказала, говоря о Джил и о внутреннем конфликте главного героя. Из истории в историю Джон отгораживается от хорошего человека в себе и не может. Потому что нелюбовь у него самом деле любовь.
Из истории в историю героям предлагается быстрое, лёгкое счастье, за которое надо только заплатить (жертва за рыбу, жертва за мир мечты, жертва за некое «высшее счастье», а что это такое, непонятно).
Наконец, постоянно растёт напряжение между жаждой чуда у одних людей и желанием обуздать чудо у других. Здесь небольшое отступление: перечитывала перед написанием рецензии самое начало — какими дополнительными смыслами оно заиграло на второй раз! Во всём описании окружающей Джона местности так и сквозит чувство покинутости и какой-то потери; мир словно так и просит, чтобы его наполнили новой жизнью, зажгли каким-то новым огнём. Ждёт нового бога, возможно.
Эти три линии переплетаются так тесно, что мне сложно об этом писать, потому что хочется обо всём сразу. Но попробую.
В тоске по богам мы видим много общего с тоской брошенных детей по непутёвым родителям или даже с тоской раба по своему не такому уж и злому господину. На самом деле боги в романе настолько похожи на людей, что условно можно считать их людьми (что доказывает случившееся с Джоном). Возможно, это и есть тот образ сверхчеловека, человека золотого века, пусть и не совершенного, но всё же высшего по сравнению с нами, которого нам, вроде как, положено любить, почитать, восхищаться им и стремиться быть похожими. Из несоответствия и рождается та самая нелюбовь к людям — сереньким, грязненьким, почти животным. Как у Джона. Или из несоответствия рождается мысль дать этим несчастным людям счастье — извне. Дать им то самое чудо, которого все ждут. Ведь ждут же. Дать Свет. Как хотел Хонна Фернакль.
Счастье, однако, нельзя дать. Ни за жертву, ни даже даром. Потому что роман всякий раз показывает нам, что оно, это счастье, у нас уже есть — просто оно маленькое и хрупкое, а мы втаптываем его в грязь, сливаем в канализацию или хуже того — замечаем в самый последний момент, вместо того, чтобы растить. И тем более нельзя никого осчастливить насильно. Это, во-первых, неправильно, а во-вторых, невозможно, потому что счастье не приемлет насилия и принуждения вообще. Но к финалу Джон, мне кажется, и сам понимает это — имел возможность наблюдать на чужом опыте. В кульминации уже не идёт речи ни о каком счастье — напротив, герой готовится положить начало хаосу, беспорядку, лишениям. Он решает дать людям другое: не Свет, но Огонь. Не счастье, но эту свою нестерпимую жажду, которая билась в нём на протяжении всей истории: «Не хочу, чтобы так, как сейчас!» — вложить это негодование, которое сначала заставляло отворачиваться, а потом — бороться. Чтобы каждый загорелся, чтобы каждый сам встал и пошёл строить лучший мир, добывать его потом и кровью.
И на самом деле в этом жесте столько веры в людей — тех самых, сереньких. А вера в какой-то степени и есть любовь.
«Все мы скоты, так нам и надо!» постепенно превращается в «Все мы скоты, но давайте уже выбираться».
Да, с помощью огня можно ковать оружие, а можно — орудия труда. Можно убивать, а можно готовить еду. Одни наши предки с помощью огня жгли города и деревни, а другие — готовили поле под сельскохозяйственные культуры. Но добром он станет или злом — это уже, наверное, другая история. А изначально Огонь — это постоянное движение, это какая-то работа, это энергия, то, что наполняет сердце стремлением и превращает его в вечный двигатель.
В этой связи примечательно, что герои приветствуют друг друга словом «Покой!» Словно желают друг другу всегда оставаться там, на дне. Мрак вообще статичен. И он, к сожалению, был и будет всегда, а вот свет из ниоткуда не возьмётся. Я сейчас очень-очень упрощаю, но сначала огонь — а потом свет.
Не знаю, совпадает ли моё видение с авторским замыслом, но сейчас, поразмыслив и соединив основные ниточки сюжета, я бы сказала, что это роман именно о Стремлении. Чтобы всем было лучше и все стали лучше.
