ПИСАТЕЛЬ ДНЯ. Вениамин Каверин (19 апреля 1902 — 2 мая 1989)
Автор: Анастасия Ладанаускене
Вениамин Александрович Каверин (настоящая фамилия Зи́льбер) — писатель, публицист. Член литературной группы «Серапионовы братья». Отец «Двух капитанов».
Цитаты
Здравствуй, брат. Писать очень трудно...
Мне необыкновенно повезло, я, можно сказать, совершенно счастливый человек: учился у пяти академиков. Я слушал лекции первокласснейших русских учёных: Бартольда, Крачковского, Эйхенбаума, был непосредственным учеником Тынянова, Шкловского, я занимался в семинаре русского языка у академика Карского. Горький с беспримерной добротой пошёл навстречу девятнадцатилетнему студенту, который послал ему первый рассказ. Мы стали переписываться. Переписка эта сохранилась и опубликована. Когда я, ещё колеблясь между историей литературы и собственно литературой, защитил диссертацию о русском журналисте и арабисте XIX века Осипе Сенковском, Горький написал мне: «Надеюсь, что вы не оставите вашу прозу ради истории литературы».

Вениамин Каверин в молодости
В одной из своих статей о «Серапионовых братьях» Горький писал, что «Серапионы» вместо приветствия произносят: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» Признаться, я не помню, чтобы нам служил приветствием этот девиз. Наверно, это было не так. И всё-таки это было именно так.

«Серапионовы братья». Вениамин Каверин — крайний справа
Очень многим кажется, что писать легко. В самом деле, ведь в основе литературы лежит живая речь, которой мы пользуемся в обыденной жизни. Но это кажущаяся лёгкость. Случалось, что я встречал писателей, которые были авторами толстых книг, написанных без малейшего труда. Это было результатом полного непонимания того, что в литературе главное не записать, а писать.
Подлинный писатель должен понимать, что литература — это искусство, требующее прежде всего самоотдачи. Надо отметить, что она не падает с неба. Она представляет собой результат упорной, подчас многолетней работы. Хорошую прозу, по моему глубокому убеждению, можно научиться писать, работая пятнадцать — двадцать лет каждый день. Итак, первое нравственно-психологическое качество — самоотдача. Кстати, об этом много писали и Пастернак, и Цветаева, и Блок. Вообще на этот вопрос легче найти ответ в поэзии, а не в прозе.
Второй характерный для подлинного художника признак — бескорыстие. Он надеется на успех, но в его работе этот двигатель на последнем месте. Когда он претендует на первое место, писатель, как правило, скатывается с профессионального пути и начинает искать возможность прославиться, которая мешает работе. Но бескорыстие касается не только успеха. Оно должно быть залогом надежды, которая сознательно или бессознательно двигает творчество вперёд.
О славе и успехе
Для талантливого человека, для того, кто не может не писать, неудача подчас важнее, чем слава. Успех воодушевляет. Успех, без сомнения, помогает делу, он внушает уверенность, но, к сожалению, это происходит и в тех случаях, когда писатель нуждается не в уверенности, а в колебаниях, в незнании того, куда идти дальше, в невозможности догадаться о том, куда ведёт «чувство пути». На моих глазах широко известные люди, обладающие несомненным талантом, достигают вершины успеха и остаются авторами единственной книги. Как писатели они кончаются, едва взяв перо в руки. Каким образом это происходит? Очень просто. Слава пришла, жизнь устроена, из числа множества побуждений к работе исчезает самое главное — стремление понять себя и надежда, что это открытие будет понято и оценено другими.
В основе подлинной славы, мне кажется, должна лежать неустанная работа.
Ещё два слова о славе. Значение её для работы меняется в разные периоды профессиональной жизни. Одни, добившись успеха, начинают лелеять его, занимаясь главным образом только им, как капризным ребёнком. Другие начинают работать как бы вопреки славе. Они не то что равнодушны к ней, они настолько приговорены к своему делу, что слава ничего изменить не может.
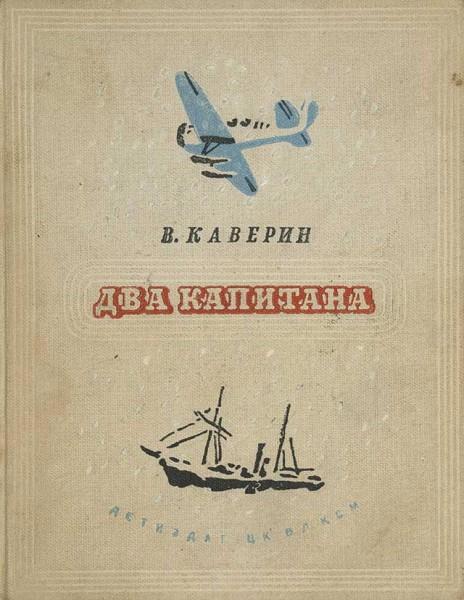
Обложка первого издания романа «Два капитана», 1940
О труде
Загляните в черновые рукописи Пушкина, Некрасова, Достоевского — и вы увидите, что пафос преодоления трудностей осенял три четверти того, что было создано этими гениями нашей литературы. Я уж не говорю о трудностях нелитературных, об усталости, инерции, горечи обид, наконец, просто лени. «Не пишется» — как часто приходится слышать эти слова от товарищей по работе!
«Первое желание, когда подходишь к письменному столу, — бежать от него», — сказал мне однажды один известный писатель. Но многие превосходные книги не были бы написаны, если бы создатели их прислушивались к подобным желаниям. Впрочем, это относится и не только к молодым. Писатели, доказавшие своими первыми книгами, что у них есть о чём рассказать народу, не имеют права не работать.
В основе литературного искусства лежит труд неустанный и ежедневный, помноженный на профессиональное умение, поглощающий все силы ума и сердца.
Стремление к намеченной цели воспитывает волю, и мне кажется, что нет другой профессии, в которой воля участвовала бы как решающий фактор. Не что иное, как воля, заставляет всматриваться в себя, находить в себе черты своих героев, бессчётное количество раз рисовать их в воображении и с равным вниманием слушать как свой внутренний голос, так и голос извне: судьбы, читателя, эпохи.
Надо отлично знать ту литературу, которой ты намерен посвятить свою жизнь. Лишь очень наивные люди могут думать, что в нашей литературе нет ни концов, ни начал и что её можно «продолжать», не имея представления о том, как она началась и развивалась. Важен и самостоятельный общий взгляд на развитие литературы.
Меня, как старого литератора, интересует новизна в литературе. То, что движет её вперёд. То, что настаивает на внутреннем несходстве.
О жизни писателя
Жизнь писателя — что бы там о ней ни говорили — беспокойна, пестра и однообразна, несмотря на свою пестроту.
Преувеличенный интерес к личной жизни писателя — не лучшее достижение XX века. Человечество ничего не потеряло, так и не выяснив, кто написал «Короля Лира» — лорд Бэкон или некий легендарный актёр, и потеряло бы бесконечно много, если бы трагедия не дошла до нас.
Внимательное чтение даёт больше для понимания личности писателя, чем знание его биографии, потому что в биографии отражается то, чем он похож на всё остальное человечество, а в его искусстве — то, чем он непохож.
О чтении
Я всегда был уверен в том, что чтение — важная часть профессиональной жизни писателя. Писатель не превращается в читателя, когда бросает перо и принимается за чужую книгу: он её читает, сравнивая, учась, отбирая.
Это не только мир литературного сознания, не менее важный, чем опыт реальной жизни. Это сопутствующее всей жизни писателя явление резонанса, без которого серьёзно работать почти невозможно. Войдите в комнату, где стоит рояль с откинутой крышкой, и хлопните в ладоши. Отзовётся та струна, частота колебаний которой совпадает с колебаниями, возникшими в результате вашего движения. Так отзываются в опыте чтения те струны, которые совпадают с кругом ваших намерений и профессиональных интересов. Так образуется литературный вкус, и важно ещё в юности позаботиться о его широте.
Когда работа не идёт, невольно снимаются с полки книги тех, у кого она удалась. Обдумываешь, сравниваешь, сопоставляешь.

О процессе работы
Меня часто спрашивают о том, как я работаю. Трудный вопрос! Боюсь, что, если бы я попытался ответить на него со всей тщательностью, на которую я способен, я попал бы в положение сороконожки, которая, стараясь объяснить, как она ходит, запуталась и разучилась ходить.
В ранние годы я тщательно разрабатывал план — главу за главой, прежде чем приняться за работу. Так было с романом о великом русском математике Лобачевском. План был тщательно продуман, материал собран, а роман так и не написан.
Потом я стал свободнее обращаться с планом. Я уже знал, что он сильно меняется, когда начинаешь писать. Принимаясь за работу, я открываю черновую тетрадь. План и заметки, связанные с композицией в общем смысле слова, с постройкой сюжета, наброски диалогов — всё находит своё место в этой тетради. Как правило, я пишу медленно, в лучшем случае не больше одного печатного листа в месяц. Всегда завидовал тем писателям, которые работают быстро, и не раз пытался узнать у них тайну этой скорости, при которой книга пишется в течение двух-трёх месяцев.
Один из моих друзей сказал мне, что он работает так: заносит в черновой вариант, не задумываясь, всё, что приходит в голову. Потом, переписывая, вычёркивает примерно треть и таким образом приближается к законченному варианту.
Я попробовал поступить, как он, и выбросил добрую половину. Оказалось, что работа идёт ещё медленнее, чем прежде.
Если говорить о внешней, технической стороне работы, которая, разумеется, имеет мало общего с внутренней, духовной её стороной, можно сказать, что я пишу так. Передо мной лежат на столе два листа бумаги. На одном я набрасываю фразу, пробую её в уме и на слух. Потом (подчас после многочисленных исправлений) переношу её на другой лист.
Это и есть черновик. На его полях я в свою очередь делаю поправки. К нему же впоследствии возвращаюсь, переписываю его снова и снова.
Известно, что Гоголь советовал первоначальпо набросать задуманное произведение с начала до конца кое-как, а потом постараться забыть его, и по возможности надолго. Разлука с рукописью важна. Она подсказывает новый взгляд на написанное, новый угол зрения. Гоголь возвращался к первоначальному наброску по семь-восемь раз.
Конечно, это далеко не единственный способ работы. Каждый писатель трудится по-своему. Особенности этого труда тесно связаны с его биографией, жизненным опытом, физическим состоянием.
О последнем стоит сказать несколько слов. Работа писателя сама по себе чрезвычайно привлекательна. Она одновременно и мучительна, и доставляет огромное внутреннее удовлетворение, к которому, впрочем, с годами привыкаешь.
Не знаю, как другим, а мне хочется писать всегда — и когда я здоров, и, может быть, ещё больше, когда я болен.
Настоящая литература начинается там, где происходит открытие — открытие не только для читателя, но и для писателя. Настоящий роман должен быть построен так, чтобы, если рассыпать его на отдельные страницы, его мог бы собрать даже ребёнок.
Именно этим подлинное произведение отличается от хроники, инвентаря наблюдений, от мнимой литературы, в которой материал главенствует над искусством.
Поэзия немыслима без любви к тому, что составляет предмет её изображения. Проза обречена на неудачу без любви к героям. И стало быть, без поэзии.
Перелистайте черновики рукописей Толстого, Чехова, Достоевского — и вы увидите, какое важное место занимают в них биографии тех людей, о которых они написали.
Тургенев знал о своих героях гораздо больше, чем он рассказал читателю. В его планах можно найти такие подробности их жизни, которые, казалось бы, даже и не могли ему пригодиться. Он должен был знать о них больше, чем читатель, чтобы то, что он хотел рассказать, имело под собою глубокое основание. Ключ к жизни героя — вот та сокровенная сущность, не поняв которой писатель не в силах нарисовать, оживить его образ.
Изучение характеров, поиски первой фразы, которая подчас звучит как камертон на протяжении всей работы над книгой, поиски композиции, поиски стиля — словом, всё, что предшествует работе, окажется бесполезным до тех пор, пока они не сольются с тем, что можно было бы назвать открытием самого себя. В сущности, вся жизнь писателя представляет собой медленное, иногда мучительное и, во всяком случае, требующее глубоких неустанных размышлений открытие самого себя.
Каждая книга — поступок. И, чтобы он совершился, писатель, садясь за письменный стол, должен помнить, что по другую сторону стола сидит читатель с его пристальным, внимательным, строгим взглядом.
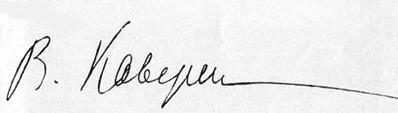
***
Слово Мастеру. Писатели о писательстве — список статей
***
