Средневековье и фэнтези для писателей – 4
Автор: Цепляев АндрейПозднее средневековье (1300-1453)
Предыдущая статья получилась слишком большой, поэтому пришлось ее разделить. Ссылка на первую часть здесь:
Средневековье и фэнтези для писателей – 3
За 800 лет с момента начала средних веков мир сильно изменился. Языческие пляски вокруг костров отошли в прошлое. Разделенная границами Европа покрылась сетью торговых путей. Появились каменные замки, новое вооружение, архитектурные и художественные стили, философские течения, а вместе с ними и зачатки современной культуры. Наступило время расцвета королевств, появления абсолютной монархии – высшей форме средневековой государственности.
К началу XIV века на территории Европы выросли большие города, среди которых выделялись Гранада, Париж, Милан, Венеция и Флоренция. В каждом жило свыше 100 тыс. человек. Население тоже росло, как и число странников, посему не удивительно, что крестьяне и горожане стали получать больше новостей, становиться эрудированнее и дальновиднее (в рамках своего социума, разумеется).

В средние века считалось, что жизнь человека состоит из определенного количества «стадий», чаще из шести или семи (infantia, pueritia, adolescentia, juventus, gravitas, senectus). Проходя через этот цикл, люди умирали. Рисовальщики и иллюминаторы представляли жизненный цикл по-разному. Эта же практика ушла далеко вперед и ее можно наблюдать даже на гравюрах XIX века. Как вы можете видеть во главе лестницы или в центре композиции стояли уже не молодые люди и девушки, а вполне взрослые сложившиеся личности. Мир стал мудрее, а продолжительность жизни, путь и немного, но выросла, в сравнении с ранним периодом.
Мужчины и женщины все так же много работали, но их проблемы меркли в сравнении с тем, что выпадало на долю ребенка. До этого я почти не касался темы детей, хотя о маленьких представителях средневекового социума следовало рассказать в первую очередь. При рождении не играло большой роли, какого статуса были родители мальчиков и девочек. Все дети проходили ряд испытаний, подготовленных самой природой.
Смертность была высокой, поэтому старались завести как можно больше детей, чтобы купировать будущие потери. Родители позднего средневековья по-разному относились к смерти новорожденного, но едва ли бесстрастно. Хоть какое-то утешение им давал церковь. Духовенство признавало детей безгрешными. Считалось, что ребенок, умерший до совершеннолетия, попадает на небеса к Деве Марии.

После родов выживали сильнейшие младенцы, но это еще ничего не гарантировало. Первый год был роковым для большинства детей. Затем организм новорожденного медленно приспосабливался к окружающей среде, получая иммунитет. Взросление наступало быстро. Разные источники утверждают обратное, но, судя по всему, уже к 7-10 годам игры крестьянских детей постепенно заканчивались. Начиналась работа, которой с возрастом становилось все больше до тех пор, пока она не перерастала в пожизненную повинность.
Дети феодалов взрослели иначе и об этом можно написать отдельную статью. Сейчас достаточно будет сказать, что старшего сына готовили занять место отца, а младшим предлагали на выбор сделать военную карьеру, поступить в университет или уйти в монастырь. У девочек обычно выбора не было. Они выходили замуж в раннем возрасте от 14 до 21 года (источники разнятся), а если суженый не находился, то девушка становилась монахиней.
Вплоть до XVII века к детям относились также строго как к взрослым. На многих миниатюрах они изображались такими же людьми, только коренастыми. Впрочем, это не означало, что родители или посторонние люди видели в них равных себе. Их любили и усердно воспитывали, так же как и в наше время, но груз ответственности на детских плечах был в десятки раз тяжелее, нежели сейчас. Поговорка, пришедшая из священного писания, – «Кто жалеет розги, тот портит ребенка», в то время была актуальна как никогда. В некоторых королевствах даже существовала практика избавления от неугодных детей. Если ребенок рос буйным, непослушным или отказывался работать, его отдавали в чужие руки. Как правило, роль пожизненных воспитателей брали на себя иностранные торговцы, увозившие вздорное чадо в чужую страну.
Что же касается взрослых, то многие проходили свои «стадии взросления» по-разному, не всегда достигая последней. Если говорить о характерах мужчин и женщин той эпохи, то о них сохранилось гораздо больше информации. XIV-XV века запомнились чередой военных конфликтов. В это время мужчине все чаще приходилось не только работать, но и воевать; за плату со стороны короны или на добровольной основе, но уже против своего короля. Особенно остро ситуация обстояла на земле французов в годы Столетней войны. Вторжения англичан лишали вилланов жилища и обрекали на полуголодное существование, а сборы на войну избавляли от последних накоплений. В самой же Англии также безбожно поднимали налоги вообще для всех. Парламент докапывался и до свободных крестьян, которых под угрозой тюрьмы заставляли работать на феодалов.
Во многом благодаря этой кутерьме сильно изменилось и представление о рыцарстве. Куртуазные романы о галантных воинах в доспехах до конца XIV века были все еще популярны. Только романы. В самих рыцарях простой люд давно разочаровался. Иначе и быть не могло. Что думали французские крестьяне, когда один такой герой в красном сюрко приходит к ним в дом, убивает кого-нибудь и уводит скотину, а потом приезжает другой, уже в синих цветах, и забирает все, что осталось? Можно вспомнить книгу Вальтера Скотта «Айвенго». Во многом наивный, этот роман вполне ярко описывает главных антагонистов – норманнских тамплиеров Бриана и Реджинальда. Эти феодалы, поклявшись защищать невинных и служить господу, держали вооруженные отряды, занимаясь грабежами и вымогательством. Очень типично для того времени.

Одно за другим поднимались крестьянские восстания. Два самых громких «Жакерия» (французское) и «Восстание Уота Тайлера» (английское) ожидаемо вспыхнули во враждующих странах. Ничего удивительного, что мужчины в упомянутых королевствах стали пить гораздо чаще. От безнадеги или просто от усталости, не ясно. Алкоголь и кабацкие утехи стали настоящим бедствием. Не зря существовал свод так называемых «кабацких грехов», включавших в себя обжорство, блуд, пьянство и азартные игры.
Один из известных средневековых рассказов за авторством Джеффри Чосера, описывает последствия этого греха. В XIV веке трое друзей напились в таверне во время эпидемии чумы. В пьяном угаре забулдыги решили найти Смерть и убить ее, но нашли незнакомца, который рассказал им, где спрятан клад. Отыскав золото в лесу, они отослали самого молодого за выпивкой, а сами задумали по возвращении убить его и разделить клад. Молодой в свою очередь решил забрать клад себе и отравил вино. Потом он вернулся и был убит. Пьянчуги же впили отравленное вино и сами встретили смерть. В итоге своеобразная притча заканчивается на счастливой ноте. Трое «друзей» попадают в ад, избавив мир от своего присутствия. Тем самым автор дает понять, что праздный человек являет собой духовный труп, который всегда «ищет смерть», и не заслуживает сострадания.
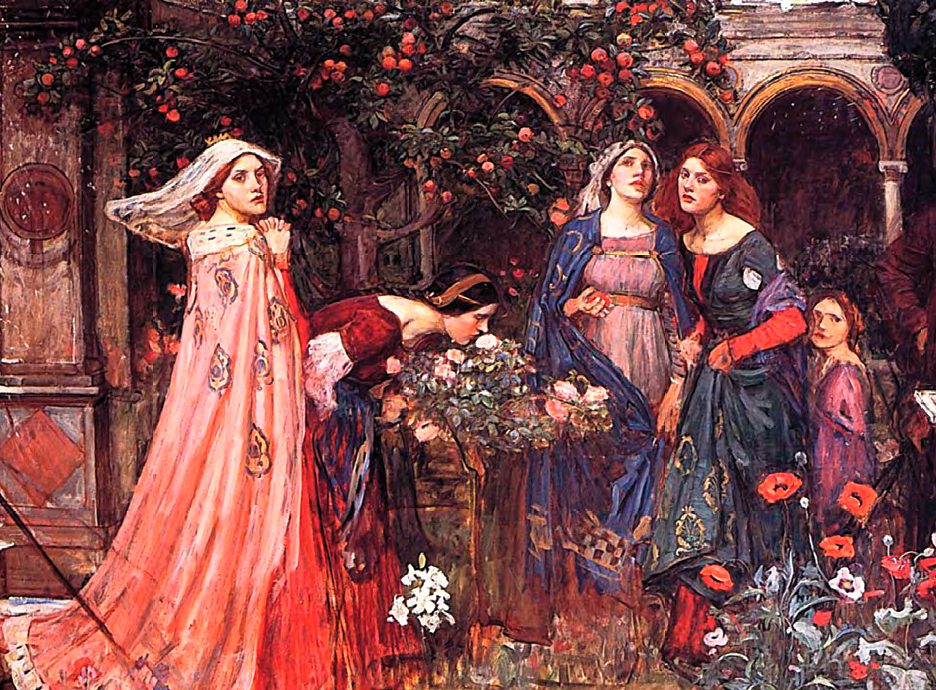
Образ женщины позднего средневековья сохранился благодаря письмам, книжным миниатюрам, историческим хроникам и городской литературе. С увеличением числа грамотных людей стали множиться и рукописные тексты. Некоторые из них особо интересны тем, что повествуют о жизни обывателей («Декамерон» и «Кентерберийские рассказы»). К сожалению, сюжет большинства описывает радости и чаяния знатных людей, но есть исключения. Особый интерес представляют торговые письма, поскольку в них иногда упоминается личная жизнь и даже челядь, работавшая на сеньора.
И здесь как раз следует упомянуть об ущемлении прав женщин, на которые в наше время так любят ссылаться. Считается, что в средние века женщина была зависима от феодала и должна была делить с ним ложе свою в первую брачную ночь. Сам же феодал собственных дочерей использовал в качестве разменных монет для заключения выгодных браков. Разумеется, все зависело от личных качеств сеньора, места обитания и законов, которым он должен был подчиняться, однако утверждать, что женщина была беззащитна и бесправна – не стоит. В обществе, где каждый был на своем месте, все люди оставались в той или иной мере защищены.
Известна история судебного разбирательства в мае 1380 года между английским поэтом Джеффри Чосером и уроженкой Лондона Сесилией Чемпейн. Женщина обвиняла поэта в похищении и изнасиловании. Чосер был приближенным ко двору человеком и лучшим другом брата короля. Тем не менее, его повели в суд, а после разбирательства он был вынужден заплатить Сесилии некоторую сумму, чтобы та отозвала иск. Имело ли место изнасилование или Сесилия была авантюристкой неизвестно, но средневековый закон встал на ее сторону.

Другой случай произошедший уже в 1475 году во Флоренции в семье торговца книгами Бернардо Макьявелли. Вернувшись со своей виллы в город, он узнал, что их молодая служанка Ненча беременна. Вскоре та призналась, что ее соблазнил сосед, пообещавший ей новое платье. Состоятельный сосед, конечно, все отрицал, ссылаясь на третье лицо. Бернардо в этой ситуации поступил вполне адекватно. Он отослал Ненчу к повивальной бабке, которая помогла ей родить, а позже подарил служанке 17 флоринов для приданного, чтобы та могла найти себе достойного супруга.
Третий пример – жизнь итальянской горожанки Алессандры Строцци (1403-1471), написавшей 72 письма своим детям. Потеряв мужа во время эпидемии чумы, она одна воспитывала пятерых детей, а затем была вынуждена расстаться с ними. Будучи обеспеченной женщиной, Алессандра ни в чем не нуждалась, а вот ее переписка с семьей несет много полезной информации. Из нее следует, что, несмотря на обострение вражды между итальянскими домами, изгнание и убийство мужчин, военные конфликты в городских коммунах обходили стороной женщин.
Это я все к тому, что существовали законы – не важно, божьи, мирские или сугубо человеческие, и люди следовали им, каждый по разным причинам. Женщины были в некотором роде защищены от посягательств и бесчестия. В средневековом мире никого не оставляли за бортом, если только он не был закоренелым преступником.
Так бы и летел этот гармоничный мир навстречу Возрождению, если бы не известное потрясение. В 1347 году флот генуэзских торговцев привез на кораблях в средиземноморский порт маленький подарок. Почему маленький? Дело в том, что это была бактерия, которая очень не хотела умирать. В Азии она жила на степных грызунах, а в Европе через блох нашла нового, живучего носителя – черную крысу.

Так на Европу обрушилась «Черная смерть». Постепенно обезлюдили первые города. Сначала прибрежные и торговые, а потом и те, что были в глубине континента. Одни люди спасались бегством, другие запирались в домах, третьи пытались уплыть в другие страны. Почти каждый второй в итоге погиб. Представьте себе невидимого убийцу, неотступно следующего за вами со скоростью 8-10 миль в день. Обычно бактерия проникала в лимфатические узлы, наращивая на теле человека «бубоны» или в легкие. В последнем случае шанса на выживание уже не было.
Вся нелепость ситуации заключалась в том, что один лишь страх смерти привел к такой жуткой катастрофе. Бактерия боялась умереть, паразитируя на блохах. Блохи не хотели умирать от жажды, кусая крыс. Крысы не хотели умирать от голода, инстинктивно следуя за людьми. Люди боялись умереть от чумы, убегая с обжитых мест, тем самым разнося заболевание еще дальше. Получился эдакий паровозик смерти, где вовлеченные стороны с диким упорством следуют друг за другом, и только бедный человек бежит куда глаза глядят.

«Черная смерть» бушевала 7 лет и вернула популяцию Европы в те дикие времена, когда вокруг костров танцевали язычники. Упоминание о ней необходимо не только в контексте средневековой темы, но и потому, что болезнь дала невиданные доселе свободы людям. Представьте себе средневековую женщину, которая руководит торговой лавкой, городской пивоварней, а то и целой гильдией, или группу вилланов ставящих условия по оплате труда сеньору, в случае отказа грозясь уйти в разбойники. Обезлюдившая Европа нуждалась в рабочих руках, и многие феодалы пошли на уступки, где-то забыв даже о гендерном неравенстве. Некоторые жены, как упомянутая выше Алессандра Строцци, вступили во владение имуществом покойных мужей, а вчерашние подмастерья в одночасье превратились в мастеров. Долго это не продлилось и большие зарплаты стали гаситься еще большими налогами, что привело к ряду упомянутых восстаний.
Также чума сильно подорвала авторитет церкви. Молитвы вполне ожидаемо не спасали от болезни, а храмы превратились в кладбища для верующих. Однако надо понимать, что недовольство крестьян росло в отношении духовенства, а не бога. В Англии, например, еще во времена Столетней войны, представителей клира ненавидели многие крестьяне и горожане. Простой люд считал священнослужителей пьяницами, бездельниками и ворюгами. Как иначе относиться к человеку, который готов отпустить тебе грехи за деньги, тем самым намекая, что у него на небесах все схвачено? Даже в литературе клирики представали не в самом приятном обличие. Чего только стоит пародийное описание ада в одном английском рассказе, где из задницы дьявола вылетели двадцать тысяч монахов.
Уже после чумы в той же Англии дали о себе знать остатки братства лоллардов. Это были те самые первые противники церковных законов, о которых я говорил в конце предыдущей статьи. Они открыто настаивали на церковной реформе, за что подвергались гонениям. Также свою роль в будущей Реформации сыграл английский теолог Джон Уиклиф, утверждавший, что духовенство не должно заниматься стяжательством и накоплением благ. Время для подобных выступлений было не самое подходящее. В XIV веке церковь была все еще сильна. Лоллардов в итоге изгнали, а Уиклиф после долгой борьбы умер, напоследок отправив письмо Папе Клименту VII с предложением снять золотые одежды и облачиться в лохмотья, если он и впрямь считает себя приемником Иисуса Христа – беднейшего из людей.

Как и говорилось ранее, самый ощутимый удар по средневековым устоям нанесли итальянцы, причем сделали они это не нарочно. Представьте себе группу флорентийских горожан, клерков, юристов и банкиров, которые после рабочего дня собираются в патио и рассуждают об античном искусстве. Какой вред они могли принести церкви? Ранние гуманисты появились еще при жизни Уиклифа в XIV веке, первым из которых считается Франческо Петрарка, а затем в течение столетия заразили новыми идеями многих молодых людей. Церковь продолжала настаивать на том, что люди должны работать, молиться и сражаться во славу господа. Гуманисты же, оставаясь вполне набожными, предлагали поместить в центр мироздания человека.
В средневековом мире, подобные мировоззрения могли появиться и окрепнуть только в Италии. В любом другом сплоченном королевстве их пресекли бы на корню. Однако в Италии некоторые города представляли собой отдельные государства, в которых шла непрерывная борьба за власть влиятельных домов. Самый известный пример – пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», где описывается похожая война двух семейств. В таком обществе трудно что-то долго контролировать. Вместе с тем Италия славилась обширными торговыми связями, гильдиями, монополией на уникальные ремесла, вроде изготовления муранского стекла, и банковским делом, похлеще, чем в современной Швейцарии. Вследствие подобного изобилия всего и вся у некоторых синьоров там было больше времени на отдых, созерцание мира и размышления. Эти влиятельные люди постепенно обнаружили в себе любовь к интеллектуальному труду и искусствам, что в средневековой Европе чаще было присуще монахам и некоторым ремесленникам. Они-то и стали первыми гуманистами, за которым потянулись граждане победнее.

Церковь всеми силами пыталась тормозить прогресс и расширение мира, но прежние методы контроля людей все чаще давали сбой. Когда-то давно считалось, что на юге Африки в океане пылает стена огня и пересечь ее нельзя, но португальские моряки доказали обратное, наладив новые торговые пути с Индией. Теологи называли Атлантический океан «Морем мрака», говорили, что на западе нет земли, что море обрывается гигантским водопадом, в котором живут чудовища, но испанцы открыли Новый свет. Европейцы были убеждены, что на свете существуют всего три континента (по количеству детей Ноя), а бог поместил Землю в центр мироздания. Оказалось, что церковь снова ошиблась. К концу XVI века стараниями Коперника и Галилея завеса над этим мифом приоткрылась.
Религиозные заблуждения со временем отмирали, как ветви засохшего дерева. После окончания средних веков авторитет церкви сильно пошатнулся, пасуя перед растущей мощью королевств и народного самосознания. В некотором роде закономерным итогом стал погром Рима в 1527 году. В ходе одной из войн лишенные платы итальянские наемники разграбили священный город, истребили швейцарскую гвардию и заставили Папу спрятаться в неприступном замке. На мой взгляд, этот эпизод истории ярко иллюстрирует то, насколько сильно изменилось отношение христиан к католической церкви. В некотором роде это было начало конца ее могущества.
Заключение
Зачем я написал эти статьи? Наверное, захотелось высказаться, освежить память, а заодно дать пищу для размышления всем неравнодушным людям. Благодаря этим статьям вы можете наблюдать, как менялся средневековый мир, какими были города, кто воевал, а кто добывал хлеб, кому нравилась жизнь, а кто хотел перемен. Они получились скорее развлекательные, нежели исследовательские; где-то спорные и поверхностные. Не спорю.
По ходу повествования я отдавал предпочтение образам и событиям, взятым из реальной истории. Делал это с умыслом, дабы изложить как можно больше фактов. Возможно, кто-то найдет что-то интересное лично для себя и захочет ознакомиться с предметом исследования поближе уже в спецлитературе.
Причем же тут фэнтези? Все-таки я считаю, что любой вымышленный мир прочно связан с прошлым. В наше время существует странное убеждение. Начинающие авторы часто утверждают, что в волшебном мире иные правила, но что это за правила такие? Если они продиктованы сиюминутными эмоциями (пишу то, что на уме), то такой мир не просто развалится, а угаснет. Автор сам потеряет к нему интерес, когда поймет, чем все закончится. Потому-то мы имеем столько незавершенных циклов во всех мыслимых жанрах.
Крепкая историческая база для лора, свод правил для героев и понимание сюжетной линии образуют краеугольный камень на котором держится вымышленный мир. Написание книги – это тяжкий труд, не имеющий ничего общего с развлечением. Развлекается только читатель. Мы же (писатели) работаем, подвергая свой мозг большому напряжению.
Вот, пожалуй, и все!
Кстати, получив множество замечаний о том, что я поверхностно описал средневековый мир, я слегка удивился. А вы сможете уместить 1000 лет европейской истории в трех статьях? Не думаю, что это в принципе возможно. Основательно можно написать только книгу. Надеюсь, вы это сделаете, и в ней найдется место не только волшебству и приключениям, но и сюжету из которого читатели развлекут жизненный урок.
