Книжные итоги 2021. Часть 1
Автор: Алексей ЛукинНебольшой личный топ, где 12-е место — то, что не зашло совсем, 1-е — зашло очень.
Публицистика, нон-фикшн, научные издания, детские детективы, подростковая фантастика, откровенный палп в мягкой обложке и перечитанное в расчёт не брались.
Кому интересно — сome on!
12-е место

Анатолий Афанасьев.
«Первый визит сатаны»
Больше никогда не буду выбирать книги по отзывам рандомных ноунеймов в инете! Сулили такое, такооое… Ни много ни мало роман о зарождении московской мафии + проникновение в самые мерзотные закрома человеческой души.
По факту — неоправданно многа буков с вялым сюжетом, который поначалу пытается в детектив и даже триллер, но быстро скатывается в типичную отечественную мелодраму средней паршивости. Тонна скучнейшей бытовухи, персонажи, старающиеся больше казаться, чем быть, и — вишенка на торте словоблудия — рассусоливания автора на тему социальной справедливости. Страниц эдак на 10 в каждой главе.
И кого эта книга могла впечатлить? Разве что не читавших «Детство» Горького — реальных мерзостей жизни там в разы больше.
Итог: даже со скидкой на 1993-й год издания, эта книга — идеальная иллюстрация к термину «графомания».
11-е место
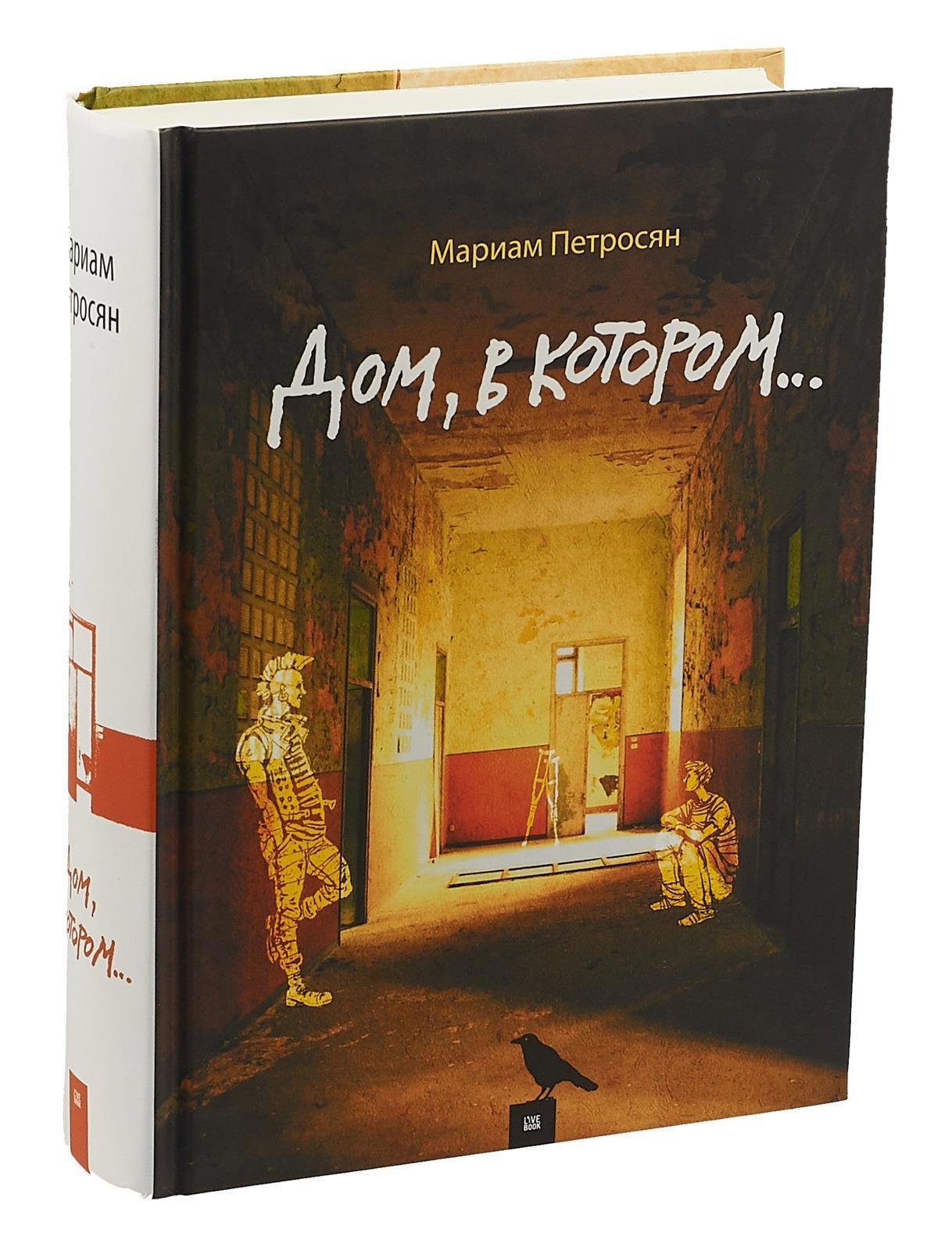
Мариам Петросян.
«Дом, в котором…»
Отдаю должное автору, вынашивать роман 18 лет — это вам не Дашку валять (Донцову). И образная насыщенность — скорее плюс. Но когда насыщенности много, текст густеет, сюжет вязнет и редкий читатель добирается до середины.
Неровный, противоречивый, сотканный даже не из слов, а из огрызков фантазий, воспоминаний и ощущений, насыщенный и перенасыщенный, распадающийся на отдельные интермедии, алогичный, но вместе с тем — подчинённый отдельной, непостижимой логике, лабиринтообразный, живой и светящийся наивным детским светом роман Петросян слишком резко погружает тебя в себя. Погружает с головой и надолго. Нырнул на 100 страниц — и начинаешь задыхаться. Хочется поймать спасательный круг или хотя бы увидеть предупреждающие буйки.
Да, в русской литературе мало кто так полно, красочно и точно отобразил восприятие мира ребёнком с особенностями (разве что Саша Соколов подступился, но совсем иным способом). И по идее, мне должно было понравиться. Но звёзды не сошлись.
Надеюсь, когда-нибудь вернусь, дочитаю и разрыдаюсь в финале.
10-е место

Алексей Биргер.
«По ту сторону волков»
За обилием муторных описаний потерялся событийный ряд. К слову, оч простой: прибыл молодой милиционер в разрушенное войной село, узнал о страшных убийствах, сделал пару выстрелов — и хоп! — изобличил преступника. А дальше — пояснения, как догадался. Фабула классической новеллы об Огюсте Дюпене или сыщике-с-Бейкер-стрит, только вместо Джона Уотсона — сам главный герой.
Наверное, повествовательная туманность должна придавать налёт мистики, чувство причастности тёмных сил (даже финал тут более чем амбивалентный). Но интенция навредила реализации, текст вышел атмосферным, но скомканным и скучным. Гораздо большую стройность Биргер демонстрировал в произведениях для детей. «Тайна старого камина» и «Тайна вещих снов» тому подтверждение (хотя во втором случае без мистики опять не обошлось).
Любимчик детства, знакомый по экранизациям и радиоспектаклям, Алексей Борисович в своей книжной ипостаси оказался обычным беллетристом 90-х, спекулировавшим на трендовых тогда жанрах: детектив, триллер, ужасы и переводная фантастика (которая, как мы помним, делалась по принципу ненавязчивой редактуры машинного подстрочника; «Дюну» в его версии не желает знать даже Интернет). Беллетристом обычным, но претендующим на нечто большее.
Итог: иногда чем меньше претензий у автора, тем лучше для читателя.
9-е место
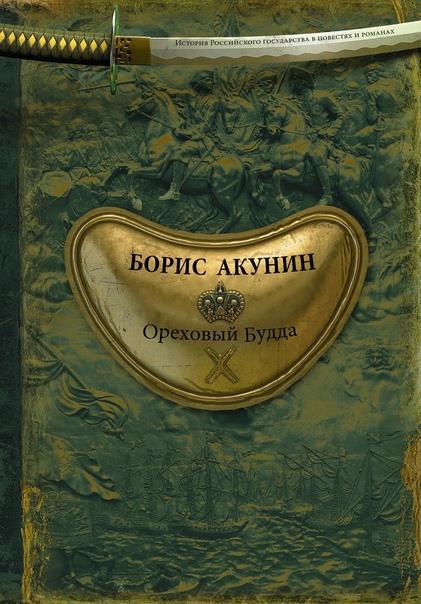
Борис Акунин.
«Ореховый Будда»
Уникальность Акунина как писателя в том, что никакой он не писатель. Скорее первоклассный литературовед, изучивший законы бытования всех жанров и теперь контаминирующий их на конкретных примерах. Мол, ля чё могу! (Нечто подобное можно сказать и про Водолазкина, разве что Евгений Германович не в меру серьёзен.)
Исключение — серия романов, начатых «Аристономией», которые находят отклик далеко не у всех. Но там в авторах значатся и Акунин, и Чхартишвили. Двойная фамилия как бы намекает: однозначно увлекательного развлекалова, как в лучших проявлениях Фандорина и Пелагии, не ждите.
Истории, дополняющие тома «Истории российского государства», отдельная песня. Вот в СССР 70-х стали издавать «Спутник букваря». (Тогда всё называли Спутником. Знакомая ситуация, правда?) Вроде к букварю имеет отношение, связан с ним, а в то же время школьник может обойтись и без него. А эта серия — художественный спутник исторической публицистики. Книги-приложения, необходимые для поддержания продаж. Иногда складывается впечатление, что Григорий Шалвович их пишет левой пяткой, в перерывах между просмотром сериалов и дружеской беседой (или даже во время). Дюма на минималках, с закрученным сюжетом и языковой стилизацией, компенсирующими необязательность содержания.
«Ореховый Будда» не стал исключением. Комикс, который проглатываешь за день, чтобы напрочь забыть уже через неделю. Хотя сопоставить буддийскую философию с картиной мира русских старообрядцев — идея небесперспективная.
8-е место
Содзи Симада.
«Дом кривых стен»
Обещали головоломку. Концентрированную, очищенную от примесей боевика (привет, Ричард Сейл и Джеймс Х. Чейз), нуара (здрасти, Донато Карризи), остросюжетных квестов (доброго здоровьица, Франк Тилье и Дэн Браун), мелодраматизма (прощайте, Татьяна Устинова и Гийом Мюссо), исторической стилизации (бонжорно, Свечины—Акунины—Чижы, Юлии Яковлевы, Пётчи и Дэвиды Морреллы), проработки травмы из прошлого (день добрый, все кому не лень: от Лорет Энн Уайт, Роберта Брындзы и девушек в поезде/окне/иллюминаторе, до Ю Несбё и Донны Тартт).
Вот те герметичный хронотоп и ограниченный круг подозреваемых. Вот сухие перечисления улик. Дотошные допросы, схемы места преступления, план здания, исчерпывающие версии следствия.
Ты знаешь ровно столько, сколько знает полиция, и можешь вести своё расследование.
Всё вроде бы так, да не так. Хонкаку-детектив — только первая половина. Когда же в дело вступает астролог Митараи, японскую сдержанность сменяет викторианская театральность (эксцентрике Митараи позавидовал бы сам сыщик Кафф). А автор вспоминает про старый-добрый приём умолчания. Логика ломается: Митараи узнает то, о чём до последнего не догадывается читатель. От страны четырёх С (самураи, сакура, сакэ и солнце) остаются лишь нереалистичный способ убийства да сомнительная мотивация преступника. И, конечно же, особое отношение к окружающему пространству, если вы в этом шарите.
Итог: наверное, я слишком люблю детективы и слишком равнодушен к Японии. Нужно прочитать «Токийский зодиак», чтоб определиться окончательно.

