Книжные итоги 2021. Часть 2
Автор: Алексей ЛукинСм. часть 1 —> https://author.today/post/235707
7-е место
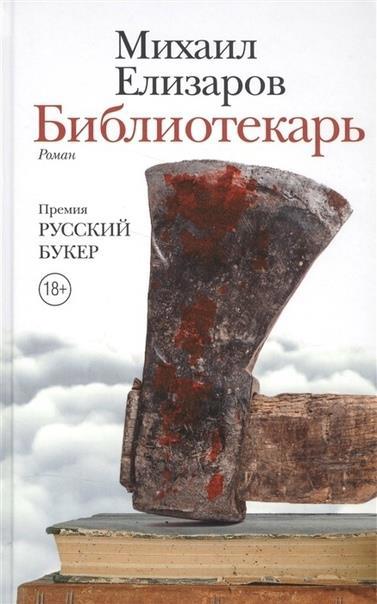
Михаил Елизаров.
«Библиотекарь»
Ура, товарищи! Долго подступался к творчеству Михаила Елизарова (в основном, через песни) и вот познакомился с целым романом. Готов принимать поздравления ;)
Не заметил в «Библиотекаре» ни ностальгии по СССР, ни проповеди фашизма (трэша полно, но судить о степени его низкопробности не берусь). Да, автору явно импонируют соцреалистический канон и советская эстетика (эстетика, не этика!), плюс то, как эту эстетику деконструировал когда-то Владимир Сорокин. Оба увлечения ловко и стёбно обыграны. Стебаться, эпатируя публику, Елизаров умеет. Даже собственные находки, вроде ярких и насыщенных батальных сцен, он плодит и размножает до бесконечности, пока гротеск не перетечёт в китч, а образ — в клише. (В чём тоже есть извращённая ирония, ведь ограничение на копирование текста — один из сюжетообразующих принципов романа.)
Узреть в подобном карнавале пропаганду совка под силу лишь совсем отбитой либеральной тусовочке. Для которой знак сам по себе является макером, даже если он — не более чем симулятивная отсылка, а означающее давно в разводе с означаемым.
Оч неровная книга, распадающаяся на три почти автономные части. Первая написана в духе сухой газетной хроники (я даже в какой-то момент ужаснулся, что весь текст будет таким). Вторая — сочные, но быстро утомляющие описания кровавых разборок, где перед читателем проносится вереница персонажей, коим трудно сопереживать (или хотя бы отличать одного от другого — настолько всё намеренно безлико). Единственно живое озарение наступает лишь в минуты фальшивых воспоминаний героя. И, наконец, третья часть в доме престарелых — лучшее, что есть в этой книге (т.к. соответствует моим представлениям о "художественности"). Тут и обилие деталей, и гротеск, и иронически обыгранная физиология, сюжет, выпрыгивающий из одежд серьёзного натуралистического романа, тропы наполняют язык воздухом и вздымают к вершинам философской отвлечённости и философских же обобщений...
Крч, я б "Букера" и "Нацбеста" не дал (как будто моё мнение кто-то спрашивает), если б не финал книги... При всей сложности моих читательских взаимоотношений с "Библиотекарем", финал не может не поражать своей прозорливостью.
(Далее — СПОЙЛЕР!)
Старухи возомнили гг избранным. Теперь он живёт в бункере, предаётся фальшивым воспоминаниям о счастливом советском детстве. И пока он там живёт — Родина в безопасности.
Ничего не напоминает?
А ведь книга 2008-го года.
6-е место
 Алексей Иванов.
Алексей Иванов.
«Пищеблок»
Страшилка с излишне подробным и приземлённым сюжетом. Много пионерии и реалий излётного СССР, мало страха. Рассказанная выхолощенным языком: обилие детских идиом 80-90-х разбавлены внезапной россыпью сочных метафор. (Нарочитое языковое украшательство — излюбленный приём Иванова, доводимый иногда до пародийного апофеоза.) С ярко выраженной коммерческой направленностью, будто сразу с прицелом на экран. (Тем удивительнее, что сериал по этой книге вышел настолько беспомощным.)
Если не ошибаюсь, большинство критиков восприняли «Пищеблок» примерно так. Камнем преткновения стал не только язык, но нарративная стратегия: обычно Иванов начинает реалистично, а после уходит в аттракцион. «Пищеблок» устроен наоборот, чем обманывает ожидания приученного читателя. (Грустно признавать, но все мы немного собаки Павлова.) Напиши автор без фиги в кармане (или скрещенных пальцев за спиной?), те же критики захлебнулись бы от восторга, обнаружив в тексте тонну подтекста. И о том, что есть подлинный коллективизм, и на каких принципах должно быть основано общество, и что есть принятие Другого. Где вампиры — всего лишь предлагаемые обстоятельства, со злом сражается группка отщепенцев в духе нынешних голливудских меньшинств, а подлинный саспенс и открытие экзистенциального ужаса — в безлико ритуализированной обыденности.
Когда в финале напирающий подтекст наконец вырывается наружу и достигает дня сегодняшнего, становится совсем уж жутко.
Итог: роман, который может быть хитрее, чем мы думаем.
5-е место
 Михаил Елизаров.
Михаил Елизаров.
Сборники рассказов и повестей «Ногти», «Кубики»
Если в «Библиотекаре» Михаил Юрьевич словно не знал, как органично натянуть сову задумки на глобус крупной прозы, то с малой формой всё збс. (Хотя "Pasternaka" не читал и не осуждаю, а "Землю" усиленно нахваливает один знакомый.)
Парадоксальные, наглые, переполненные сальными подробностями, местами едкие, но всегда чрезмерно раскрепощённые новеллы расширяют творческий метод автора сразу во все стороны. Укрупняют отдельные приёмы («Белая», «Импотенция»), впадают в безраздельный поток сознания («Овод»), смещают фокус с фабулы на стиль («Почему не удавили детской шапочкой»), забегают на поле других писателей и даже поп-культуры. (Молодого Елизарова вообще сильно штормит, перебрасывая от Сорокина к Виктору Пелевину и обратно. Так рассказ «На мгновение он ослеп…» явно реминисцирует пелевинский «Хрустальный мир»; или же это я слишком люблю раннего Виктора Олеговича, отчего его призрак мерещится мне во сне и наяву.)
Крч, море крипоты, абсурда и чёрного, как задница Эдди Мёрфи, юмора.Естессна, автор и здесь продолжает славную традицию взлома и пересмотра ритуалов, паттернов и практик. Мир предстаёт набором придуманных ролей и правил, зачастую не только иррациональных, но жестоких и бессмысленных.
Чутка хармсовский "Голубь Семён Григоренко" теперь вообще одно из моих самых любимых произведений.
Итог: если «Библиотекарь» был просто кривым зеркалом, то «Ногти» и «Кубики» — мелкие и острые осколки, каждый из которых ухватывает свой край уродливой реальности.
4-е место
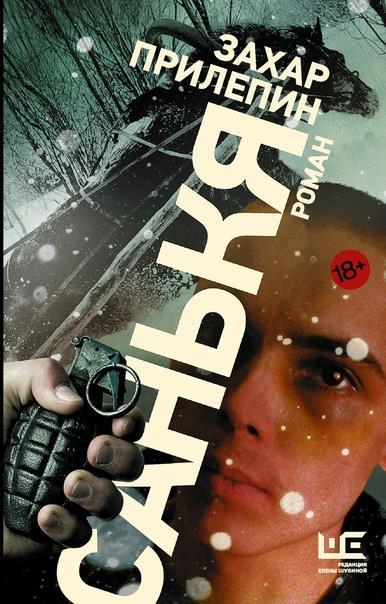 Захар Прилепин.
Захар Прилепин.
«Санькя»
В далёком 1990-м режиссёр Говорухин снял фильм с говорящим названием «Так жить нельзя». Спустя 16 лет писатель Прилепин подхватил его месседж.
Что имеем: холодные прокуренные электрички, квартиры в подгнивающих хрущёвках, непролазные сугробы в деревне, борзые менты, разогнанные митинги, разбитые губы и романтика юношеского бунта. Огламуренная Москва подмигивает новеньким «Макдаком». От полюса к полюсу, в вакууме смыслов скитается молодой пассионарий Саша. (Санькя, как с диалектно-просторечной ассимиляцией звала его бабушка.)
Чего нет?
Ответа на вопрос: а как жить можно?
Прилепин сталкивает лбами несколько правд. Разочарованного до неприкрытого цинизма профессора, ловкого политического манипулятора с чертами нарцисса, молодых парней с окраины, горящих националистским огнём, и тихую, православно-языческую размеренность русской деревни (русскаго мiра). С первым автор спорит, на второго смотрит с интересом, но без иллюзий, третьим искренне сочувствует, утрату четвёртой бесслёзно, по-мужски оплакивает.
Особенно это заметно в эпизоде с похоронами. Пока Санька тащит через ночной лес гроб отца, язык произведения срывается с тормозов и хлещет по глазам читателя набирающим силу поэтизмом. Чем сильнее метель, тем жёстче образы. До суггестивности «Чёрной обезьяны» или «Греха» тут далеко, но намётки уже очевидны. Тогда как повествование о столичной жизни, грешащее стилевой разболтанностью, с казённым реализмом вперемешку с блатняком и матершиной, дано фрагментарно и смазанно. В фиксации на деталях — пролог к будущей импрессионистской лаконичности «Восьмёрки».
К чести автора, готовых рецептов в романе не дают. (Если это не рецепт «коктейля Молотова», ха-ха.) Но без обиняков предупреждают, к чему всё может прийти. Самопознание обернётся саморазрушением. Бессилие — насилием (и наоборот).
Чуете, пахнуло Тайлером Дёрденом?
Однако финал романа — самое неубедительное место. Хуже только описание секса главного героя. С сексом у Прилепина вообще какие-то проблемы (по крайней мере, в книгах, как в жизни — хз). С другой стороны, чего ещё ожидать от молодёжи, слишком рано выброшенной во взрослый мир? Которую любовная страсть пугает больше, чем граната с вырванной чекой. Которой проще убить другого или пожертвовать собой, чем сформулировать чувства вслух.
Как молвили герои вырыпаевской «Эйфории», вышедшей с романом «Санькя» в один год: «— Я видел, ты смотрела. А чё ты смотрела?» — «Я не знаю.» — «Я, короче, тоже не знаю, но я знаю, что я больше без этого не могу…»
