Книжные итоги 2021. Часть 3
Автор: Алексей ЛукинСм. часть 1 —> https://author.today/post/235707
См. часть 2 —> https://author.today/post/236020
3-е место
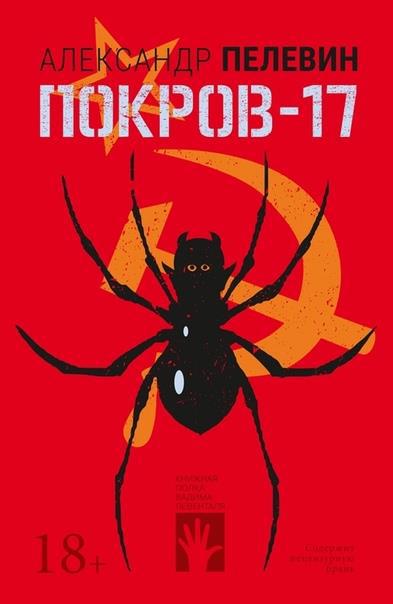 Александр Пелевин.
Александр Пелевин.
«Покров-17»
Этот роман следовало бы назвать «Оч странные дела по-русски» (последнее произносить с интонацией Джигурды). Чем наши дядьки из романов о попаданцах хуже ихних подростков на великах, а закрытые советские города, созданные вокруг очередного суперсекретного НИИ, не «Зона 51»?
Да, «Покров-17» —очень странная книга. Такая маленькая, но такая вместительная. (Нет, речь не о Саше Грей. Олды тут?)
За один рабочий день я проглотил 350 стр в сеттинге постапокалипсиса вкупе с деревенской и научно-фантастической повестью. Вспомнил лейтенантскую прозу (куда ж без главной скрепы), насладился квазивеличием триады «православие, самодержавие, народность» в путинском изводе, проникся метафизикой 90-х (тут Пелевин по-доброму троллит однофамильца). Оценил степень постмодернистской интермедиальности (от песен Анжелики Варум и цитат из Егора Летова до картин Босха, Гойи, Дениса Лопатина, Васи Ложкина и позднего Коржева вместе взятых). Предался зеландо-кастанедовским размышлениям о сути реальности, о человеческой психике и последствиях коллективной травмы.
Ну и просто насладился первоклассным боевиком в духе «Тридцатого уничтожить!». (Фамилию автора этой книги носит один из персонажей «Покрова».)
И если бы от всей книги осталось только начальное стихотворение, оно всё равно попало бы в этот топ. На почётное место.
Итог: русская интеллектуальная проза (или претендующая на оное звание) может быть остросюжетной. У автора есть все шансы породнить условную редакцию Шубиной с условной серией S.T.A.L.K.E.R.
2-е место
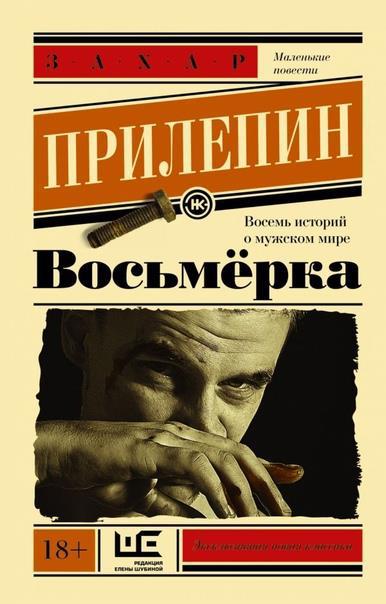
Захар Прилепин.
Сборник повестей «Восьмёрка»
В 2017-м делал большой разбор худ.фильмов Алексея Учителя, где как-то невысоко оценил «Восьмёрку». Кому интересно, вот: https://syg.ma/@alieksiei-lukin/ot-zhizieli-do-matildy
Беру свои слова назад. Оказалось, излишняя сентиментальность и некоторая размягчённость интонации в мире суровых короткостриженых мужчин результат не только свойственных Учителю режиссёрских решений. В первоисточнике это тоже имеется, хоть и не столь явно.
Итак, Бог оставил этот мир, или же наоборот, мир забыл про Бога. Неважно. Тщетно наше бытие. Вылезшие из постперестроечной шинели маленькие люди тыкаются друг в друга, как слепые котята. Отсюда 2 принципиальных свойства прилепинской прозы: акцент на фигуре отца и невозможность коммуникации друг с другом. Обе темы заданы в первом же рассказе «Витёк», а наиболее ярко воплощены в повести «Допрос». (Наряду с самой «Восьмёркой» «Допрос» — одно из лучших творений Евгения Николаевича.)
Компактный объём, стройное повествование, причёсанный язык, избегающий крайностей «Саньки», ёмкие описания, внимание к нюансам, разнообразный психологизм, ювелирная работа с деталями, стремление к выражению невыразимого и тоска по доброму, светлому, вечному, проступающая сквозь нарочитое пацанское бруталити. Бытовая правда жизни во всей её многомерности, доказывающая, что настоящий художник гораздо тоньше, глубже и противоречивее наших представлений о нём. Даже если художник убивает людей на Донбассе.
1-е место
Пальму первенства делят сразу два романа.
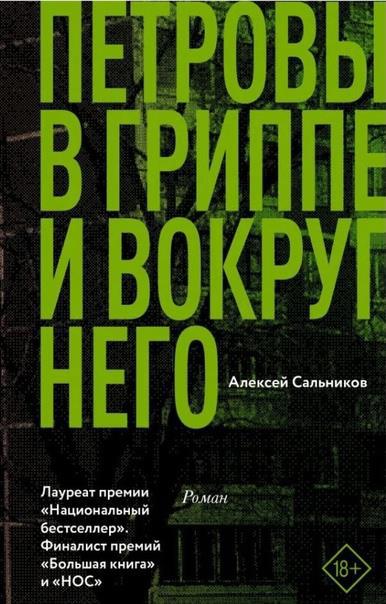
Алексей Сальников.
«Петровы в гриппе и вокруг него»
Если б этой книги не было, её следовало бы придумать. Странно, что при столь прочном пребывании русского человека в окружении всякого рода хтони, в литературе этот процесс отрефлексирован слабо. Да, всё те же Скорокин с Елизаровым, да Масодов (или кто там скрывается под этим псевдонимом?), совсем ранний Виктор Пелевин, Толстая и отчасти Глуховский.
Видимо, наши предки так глубоко загнали первобытный страх смерти в область бессознательного, окутали его таким ореолом внешних мифологем, что мы, неблагодарные потомки, всё сублимируем, сублимируем, да никак не высублимируем. (Поэтому и с фильмами ужасов в стране такая напряжёнка, в роли хорроров выступает скорее бытовая «чернуха» с закосом под Балабанова. А то, о чём боится говорить взрослая литература, совершенно открыто представлено в подростково-юношеском сегменте — достаточно взглянуть на terror gothic Татьяны Мастрюковой и прочие издания последних лет от Росмэн.)
Зато теперь есть Алексей Сальников. Как проповедует Роберт Стайн (мегапопулярный автор страшилок для 9-13 лет): ищите источник ужаса в самых знакомых местах. Сальников пошёл ещё дальше, поставив знак равенства между страшным, обыденным и абсурдным. Так сказать, от Гоголя с Салтыковым-Щедриным к Достоевскому и Булгакову.
Не самый плохой путь, согласитесь?
«Петровы…» намеренно написаны так, что их можно до бесконечности сравнивать с «Улиссом», спорить об архетипах, выковыривать мифопоэтические аллюзии, анализировать язык — нечасто встретишь произведение, где описание повествует, а повествование описывает, считывать фрейдо-юнгианский пласт, строить предположения: существуют ли герои на самом деле, жив ли Петров, а если умирает, то в какой момент?
Можно читать как драму русской повседневности, где каждый узнает себя. На всех нас в детстве надевали колючий нелюбимый свитер, тащили на ёлку в местный ТЮЗ, а теперь мы ездим на работу в автобусах/трамваях, окружённые странными людьми.
Меня в этом тексте поразило другое. Не оригинальность и простота задумки + совершенство её вербального исполнения, а всего одна деталь, мимо которой, скорее всего, прошли остальные. Я знаю о себе то, что скрываю от окружающих. (Как и каждый из окружающих утаивает что-то от меня.) Мой главный секрет, уязвимое место. Самая главная правда, в которой я боюсь себе признаться…
В романе Сальникова Петров открытым текстом говорит эту правду другому герою.
Откуда автор об этом знает? Как проник, как нащупал???
Вот почему хорошие писатели всегда полны загадок. А за маской изумительного стилиста может прятаться глубокий психолог.
Итог: книга, которая заняла в моём сердечке место рядом с повестью «Москва — Петушки». Что многое объясняет (и про меня, и про «Петровых»).
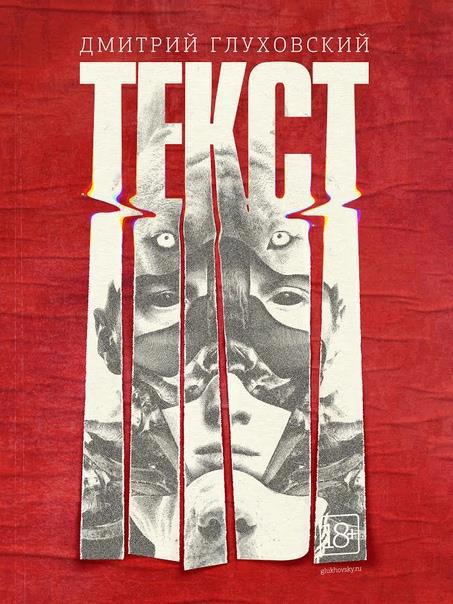
Дмитрий Глуховский.
«Текст»
Этот роман можно было написать пафосно. Например, о том, что вначале было Слово, Словом останавливали Солнце и разрушали города, Словом творили новую жизнь. О том, как в новую жизнь явился сын человеческий и призвал оставить дом свой, отказаться от отца и матери, дабы первые стали последними, а последние первыми. О том, как за речи сии он заочно был представлен суду Синедриона, схвачен воинами и предан смертной казни.
А можно — простой, предельно понятной разговорной речью, на коей мы строчим сообщения в мессенджерах, беседуем с коллегами в перекуре и слушаем свои мысли 24/7. Когда-то Пушкина ругали за поэзию на «низком» языке, лишённом архаики церковнославянизмов. Не сравниваю, но Дмитрию Алексеевичу из наших современников чаще всего прилетают обвинения в языковой дистилляции, годящейся лишь для подростковой фантастики.
И всё же в своём первом, полноценно реалистическом романе Глуховский выбирает второй вариант. Уместив при этом почти всё действие на дисплее смартфона, что позволило скрестить религиозно-философский замах с актуальной социальной повесткой. Даже слишком актуальной: в какой-то момент сознание стало определять бытие. Сальников в «Петровых» предсказал всеобщее помешательство из-за болезни, Глуховский в «Тексте» — дело Ивана Голунова.
Энциклопедия русской жизни — штука опасная.
От знакомых, кто читал «Текст», слышал такие отзывы. Оригинальность формы и содержания (не избитый пока сюжет + приём текста, позволяющий органично вплетать в монолог гл. героя многоголосие иных персонажей). Точность и узнаваемость деталей, грамотно выстроенная психологическая арка, раскрывающая героя последовательно до той глубины, вблизи которой дерутся Фёдор Михайлович с Львом Николаевичем.
Вместе с тем — мрачная, гнетущая атмосфера, тоска и финальное ощущение безысходности, подменившее катарсис.
«Есть люди, от которых что-то остаётся, а есть люди, от которых не остаётся НИЧЕГО».
С первым соглашусь (а Антон Долин в рецензии на «Левиафана» объяснит, почему настоящее искусство и должно быть таким). С последним — нет. Дальше СПОЙЛЕРЫ! В другом фильме Звягинцева «Изгнание» гл. герой (Алекс) вынуждает жену (Веру) сделать аборт, т.к. подозревает, что будущий ребёнок не от него. Во время аборта мать умирает. «Что нужно сделать?» — «Похоронить Веру».
После чего мы видим Веру живой и невредимой.
Сцена с почтальоном намекает как на фильм Тарковского, так и на библейское Благовещение. Вера, отложив письмо, на крупном плане, почти глядя в зрителей, признаётся: ребёнок, конечно же, от Алекса, от кого же ещё. Но мы — дети не только наших родителей. И можем жить вечно.
Финал фильма открыт, но толковому зрителю после этого эпизода и так всё ясно. Однако режиссёр не прерывает кадр. В нём возникают крестьянки, работающие в поле, звучит народная песня (переходящая на титрах в молитву), а потом в кадре проносят младенца. Ещё раз: в фильме, где аборт — сюжетообразующее событие, под самый занавес показывают живого малыша.
Тут и до бестолкового зрителя должно дойти.
В финале всех Евангелий герой воскрес. Глуховский же проходит по касательной, не срываясь в прямую аналогию. Его герой — и жертва, и палач. Человека он всё-таки убил, занял его место и, хоть много рефлексировал, не сказать, чтоб горячо и искренне раскаялся. Но вину искупил.
«Застряли Горюновы в две тысячи шестнадцатом, а мир поехал дальше.
У Нины родилась дочка. Есть люди, от которых ЧТО-ТО остаётся, а есть люди, от которых не остаётся ничего».
Итог: книга, благодаря которой на одного хорошего писателя стало больше.
Планы на 2022-й:
Никлас Натт-о-Даг. «1794»
Дмитрий Быков. «Июнь», «Истребитель»
Павел Крусанов. «Укус ангела»
Гузель Яхина. «Дети мои»
Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
Денис Драгунский. «Архитектора и монах»
Ксения Драгунская. «Туда нельзя»
Захар Прилепин. «Обитель»
Линор Горалик. «Имени такого-то»
Что-нибудь из Шишкина и Терехова
Алексей Поляринов. «Риф»
Чарли Кауфман. «Муравечество»
Борис Акунин. «Мiр и Война»
Акунин-Чхартишвили. «Счастливая Россия», «Трезориум»
Дмитрий Глуховский. «Пост»
Виктор Ремизов. «Вечная мерзлота»
Содзи Симада. «Токийский зодиак»
Алексей Иванов. «Тени тевтонов»
Марина Степнова. «Сад»
