Психология плагиата
Автор: Михайлова Ольга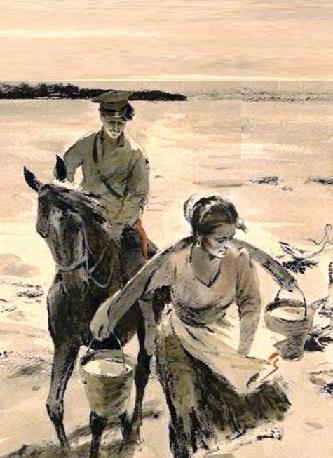
Эту тему обсуждают уже скоро столетие. Некоторые дорого бы дали, чтобы поставить в ней точку, да не получается. Всякий раз выходит многоточие и всё снова затягивается... Кто же написал "Тихий Дон"?
Я являюсь убежденным противником авторства Шолохова. Почему? Помните у Булгакова упрёк Ивана Бездомного Сашке Рюхину: «Взвейтесь да развейтесь...», а вы загляните к нему вовнутрь — что он там думает. Вы ахнете!». А ведь Сашка Рюхин — неглупый парень, почему же даже не шибко умный Ваня Бездомный видит его насквозь? Конечно, дело происходит в тридцатые, Рюхин мимикрирует, чтобы выжить, он прячет свою личность и скрывает свое несогласие с существующим строем. Но ему это не удаётся! Его читают и понимают, что он лжёт. Даже Бездомный понимает. Потому, что автор никогда не может скрыть ни свою личность, ни свою сущность...
И именно поэтому я не верю в авторство Шолохова. Я не нахожу в его жизни черт той личности, которая писала «Тихий Дон». К тому же мы, как и Шолохов, живём в эпоху «смены времён». Жизнь — социум, политика, экономика — столь изменились, что практически невозможно реконструировать прошлое по чужим воспоминаниям. Не может человек, родившийся в год московской олимпиады, опубликовать такой роман об Афгане по чужим рассказам, чтобы участники событий не обнаружили ни малейшей фальши. В «Тихом Доне» тоже видно: роман писал очевидец, современник и участник событий. Отсюда и возник «шолоховский вопрос» в литературоведении.
О личности самого Шолохова есть свидетельства, далёкие от пристрастности. Вот, например, Евгений Шварц: «...На вечернем заседании выступил Шолохов. Нет, никогда не привыкнуть мне к тому, что нет ничего общего между человеческой внешностью и чудесами, что где-то скрыты в ней. Где? Вглядываюсь в этого небольшого человека, вслушиваюсь в его южнорусский говор с «h» вместо «г» — и ничего не могу понять, теряюсь и не хочу верить, что это и есть писатель, которому я так удивляюсь. Съезд встал, встречая его, и не без оснований. Он чуть ли не лучший писатель из всех, что собрались на съезд. Да, попросту говоря — лучший. Никакая история Гражданской войны не объяснит её так, как «Тихий Дон». Не было с «Анны Карениной» такого описания страстной любви, как между Аксиньей и Григорием Мелеховым. И «Анну Каренину» упомянул я напрасно. Страсть здесь ещё страшнее. И грубее. Ну, словом, смотрю я на «Тихий Дон» как на чудо. И никак не было видно сегодня ни по внешности, ни по говору, ни по тому, что он говорил — что это вот и есть автор «Тихого Дона».
И заметьте, это говорит совсем не завистник, в тоне Шварца откровенное недоумение — и больше ничего. А вот академик М.П. Алексеев, который общался с Шолоховым на президиумах АН СССР. Он — не завистник-коллега, он вообще не писатель, а литературовед, и его суждение — это взгляд исследователя на исследуемое. «Ничего Шолохов не мог написать, ничего!» Согласитесь, достаточно жёстко сказано.
А вот ещё одно характерное воспоминание. Это человек, связанный с миром литературы только генетически. Физик Никита Толстой вспоминал, что его отец, Алексей Толстой, сбежал из Москвы, когда ему предложили возглавить ту самую комиссию по плагиату. А дома на вопрос: «Кто всё же написал «Тихий Дон?», отвечал одно: «Ну, уж, конечно, не Мишка!»
Известно и то, что Шолохов, живя в Вешенской, всегда отказывался от встреч с писателями. Если же эти встречи случались, был, что называется, «закрыт». Это пытались объяснить высокомерием «живого классика», но я склонна полагать, что ему действительно нечего было сказать. Например, он встречался со Стейнбеком — без переводчика. Стейнбек не знал русского языка, Михаил Александрович не знал английского. Они сидели за столом. Выпили около трёх бутылок водки, расстались довольные друг другом. А вот Василий Шукшин с ним тоже встречался, но был в ужасе: Шукшин шёл к великому писателю, а увидел перед собой обыкновенного деревенского алкаша и вдобавок дурака. Последнее больно задело Шукшина, хоть он и не показал этого.
Шолохов не любил говорить о литературе. Но почему? Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой о литературе охотно рассуждали, потому что ею занимались и любили её. Чехов тоже охотно делился мыслями с Сувориным. Горький часами трепаться мог о поэзии и прозе. И Бунин любил о поэзии потолковать. Почему же молчал только Шолохов? Не потому ли, что ничего сказать не мог, ибо просто ничего не знал? Однажды его спросили: «Вот у вас в романе появляется чёрное солнце, откуда такой образ?» А образ имеет свои корни: от «Слова о полку Игореве» до Максимилиана Волошина и Мандельштама. А Шолохов, прежде чем ответить, смотрит вдаль: «Я вот сейчас вспомнил, где это. Это гибель Аксиньи. Я помню, когда я это писал, у меня прямо в глазах потемнело». Аж жалко беднягу становится. Ну что они пристали к нему с такими вопросами? Ну откуда ему знать, как попало в роман это солнце? Это же для него, я думаю, была страшная мука: всю жизнь держать ответ за другого и притворяться гением... «Вот у вас образ Лагутина, откуда вы его взяли, я вот нашёл в архивах, что был такой». Шолохов замолкает. После паузы: «В то время масса была документов, откуда я его взял, уже и не помню». Причём забывчивость его начала поражать уже в 1930 году, в двадцатипятилетнем возрасте! Для склероза рановато. На все вопросы о том, как он писал роман, откуда брал документы, Шолохов отговаривался забывчивостью. «Много было работы, — говорил он. — Я беседовал со многими людьми…» С кем конкретно? Нет людей, с которыми он мог бы поговорить о дореволюционной ситуации и Гражданской войне на Дону. Мемуаров о белогвардейском движении в эти годы было много, но вот беда, все в эмиграции, а в Советской России их писать было невозможно, ибо статья за это светила подрасстрельная. Делиться же ностальгическими воспоминаниями о вырезанном казачестве в СССР стал бы в те годы только самоубийца. При этом люди, которые были знакомы с Шолоховым, виделись с ним, слушали, как и что он говорит, все утверждали, что, по их ощущениям, этот человек вообще ничего написать не мог.
Но это вообще-то не так. Израильский литературовед Владимир Назаров, известный как Зеев Бар-Селла, нашёл текст, который написал Шолохов. Это очерк «Тракторист Грачев», опубликованный в Вёшенской газете «Большевистский Дон» и не переиздававшийся ни в одном собрании сочинений. Написано чудовищно, автор двух слов связать не может, но даже этот очерк был перепиской очерка по правобережью Дона, который за полгода до этого вышел в «Правде» под его фамилией. Есть и ещё один документ. Вот как писал Шолохов в перерывах между написанием гениального «Тихого Дона»: «Данные для этого есть, надо их только осуществить», «Колхозы Вёшенского района имеют все данные для того, чтобы закончить сев вовремя. И они его закончат», «Значит ли переход к усиленному развитию животноводства, что колхозники перестанут быть хлеборобами, перестанут сеять хлеб?» А вот ещё перл: «Климат Вешенского района после многолетних исследований и наблюдений признан учёной агрономической комиссией, написавшей специальное исследование о нашем крае, как засушливый».
Да, не Пушкин. И невозможно подогнать личность Шолохова под текст "Тихого Дона". Текст есть, личности нет. У Шолохова нет биографии. Во-первых, неизвестен год его рождения, называют 1905-й, но намекают, что он на несколько лет старше. Во-вторых, неизвестен отец. Согласно официальной версии, матерью его была Анастасия Черникова, дочь крестьянина из Черниговщины. Долгое время она была в услужении в панском имении Ясенёвка, потом сирота была выдана замуж помещицей Поповой за сына станичного атамана Кузнецова. Но впоследствии она покинула супруга и ушла к Александру Шолохову, скупщику скота. Якобы от него Анастасия и родила сына Мишу. Поначалу он носил фамилию ее тогдашнего мужа Кузнецова, а потом, когда мать вышла замуж за Шолохова, его усыновил отец. В каком году это произошло? Сколько лет супруги прожили вместе? Никто не знает.
Дальнейшее ещё туманнее. Сам писатель, как всегда не очень грамотно, заявлял: «Моя автобиография — в моих книгах». Однако совершенно очевидно, что ни описание Первой мировой, когда Шолохову было девять лет, ни описание Гражданской, когда ему четырнадцать, к упомянутой «автобиографии» отношения иметь не могут. И тогда раскрывается удивительное жизнеописание: «Не имел, не участвовал, не был…». То же, что выдаётся нам за «житие Михаила», многократно опровергается самим Шолоховым. Это касается детства, юности, молодости, пребывания в комсомоле, ЧОНе, участия в продразвёрстке, под судом, военной службы, похорон матери.
Он лгал? Судите сами. Итак, образование. Первый год он болел, к ним ходил учитель, и за 8 месяцев они одолели курс первого класса, во втором классе он учился в станичном училище. О таком образовании нарком Ежов писал в своих анкетах: незаконченное низшее. Затем, по шолоховским же рассказам, Шолохов учился в московской казённой гимназии №9 имени Г. Шелапутина в Москве, есть фотография, где он в гимназической форме в московском дворе. Затем был переведён в Богучарскую мужскую гимназию, а затем в гимназию станицы Вёшенской. Да, действительно, в 1919 году в Вёшенской была открыта гимназия при атамане Краснове, которая просуществовала один учебный год. Документов Богучарской и Вёшенской гимназий нет, они погибли во время войны, но документы Шелапутинской гимназии есть и доступны в Историческом архиве Москвы. Увы, там есть всё, кроме фамилии Шолохова: биографам не удалось отыскать его имени в списках, нет и ни одного его одноклассника!.. Выходит, что, не учась в Москве, он не мог продолжить образование в Богучаре и в Вёшенской. То есть Шолохов человек абсолютно необразованный.
Дальше — новые легенды. Что он пятнадцать лет «комиссарил» и командовал отрядом в семьдесят сабель... Ну, вообще-то для тех лет это неудивительно, если вспомнить Гайдара. Однако — слова Шолохова никем не подтверждаются. Носители «семидесяти сабель» не находятся! Ни одного человека, который припомнил бы «комиссара Шолохова». Он напридумывал, что якобы спорил с Махно, с Фоминым... Ясно одно. Заняться в станице ему было нечем, своего хозяйства и навыков крестьянского труда не было, даже в батраки он пойти не мог — ничего не умел. И его направили на четырёхмесячные курсы продинспекторов в Ростов, и он их окончил.
Да, и эти курсы ценны тем, что дали нам еще один подлинный образчик стиля юного гения. Биографы раскопали самый ранний пример шолоховской прозы — об установлении величины посевов, каковая устанавливалась «путём агитации в одном случае, путём обмера — в другом и, наконец, путём того, что при даче показаний и опросе относительно посева местный хуторской пролетариат сопротивопоставлялся с более зажиточным классом посевщиков». Это произведение хранится в Шахтинском филиале Госархива Ростовской области и представляет собой обязательный реферат, который 16-летний Миша Шолохов писал, обучаясь в феврале-апреле 1922 года на курсах продинспекторов.
Пойдём дальше. В 1922 году его поймали на взятках. Он взимал продналог, размер налога зависел от размера земли, так вот он за взятки эти размеры уменьшал, «сопротивопоставляя» их в свою пользу. Это я не комментирую. Его взяли с другими подозреваемыми, их потом отпустили, а его нет. Он получил два года условно, говорят, его отмазал отец-отчим, скостив ему пару лет в метрике, чтобы он оказался в итоге несовершеннолетним.
Далее известно же, что, приехав в Москву, Шолохов посещал литературную студию «Молодая гвардия», организованную РАПП, объединение радикальных молодых коммунистов. Действительно, на двух заседаниях в ноябре 1923 года Шолохов присутствовал. При первом посещении он якобы получил задание написать фельетон, на следующее занятие студии он принёс фельетон «Испытание». Но этот фельетон был опубликован в газете «Юношеская правда» ещё в сентябре 1923 года. Да, стоит хорошо поработать с календарём, и выясняется, что любая подробность, относящаяся к биографии Шолохова, подложна.
Назаров считает, что всё, подписанное Шолоховым, написано не им, и полагает Шолохова — «проектом ГПУ». Сиречь у некоего расстрелянного белогвардейца нашли роман и подыскали «автора», который не имел бы отношения к литературному труду. С таким легче работать. У любого, кто пишет, есть какие-то писательские амбиции, а под именем Шолохова можно было публиковать всё, что угодно. Сам Назаров называет автором «Тихого Дона» Виктора Севского, это литературный псевдоним Вениамина Краснушкина. Исследователь полагает, что «литературная биография Шолохова — не продукт личной инициативы малограмотного парня из донской станицы, а результат операции, спланированной и проведённой весьма компетентным учреждением». Он нашёл воспоминания одного музейного сотрудника на Дону: «Знаю Шолохова. Приезжал к нам в музей. Паренёк как паренёк. На коленках ползал: старые газеты и журналы читал. «Донскую Волну» в особенности». Что же искал? — задаётся вопросом Назаров и считает, что тот искал напечатанную главу из романа «Тихий Дон» за подписью «Виктор Севский». Зачем? Чтобы уничтожить улики».
Тут Назаров, на мой взгляд, себе противоречит. Если это проект ОГПУ, зачем же Шолохову-то о какой-то главе беспокоиться? Всё бы за него сделано было. Назаров же считает, что проект заработал, и вскоре под именем Шолохова начали выходить фельетоны и рассказы. Нельзя же было приписать роман высочайшего уровня совершенно неизвестному человеку, явившемуся ниоткуда. Вначале ему нужно было создать литературную биографию. И ему её создали.
Анализ текста романа выявил, что в нём присутствуют принципиально различные типы текста, беловики и — черновые варианты этих же самых беловиков. Черновики подразделяются на альтернативные редакции белового текста, планы и справочные материалы, послужившие источником для написания художественного текста. И что самое удивительное — все эти разнородные фрагменты присутствуют в романе одновременно! Иными словами, наличный печатный текст романа является механическим воспроизведением не перебелённой авторской рукописи…
Чьей? Ещё в 1928 году, когда в журнале «Октябрь» появились первые главы «Тихого Дона», раздались голоса: «Да это ж Фёдор Дмитриевич Крюков писал!» В 1975 году в Париже вышла книга Роя Медведева «Кто написал «Тихий Дон». Медведев тоже считает автором Крюкова, и полагает что во время отступления в 1919 году Донской Армии, тесть Шолохова Громославский после смерти Крюкова получил часть его рукописей. По мнению Медведева, «Тихий Дон» содержит пятьдесят характерных биографических черт автора, но только пять или шесть из них могут быть приписаны Шолохову. В то время как к Крюкову могут быть отнесены, по меньшей мере, сорок или сорок пять.
А вот Михаил Аникин считает автором «Тихого Дона» не Крюкова, не Шолохова, а Александра Серафимовича, сына казачьего есаула. По его мнению, Серафимович пошёл на эту мистификацию, поскольку после публикации такого «белогвардейского» романа мог оказаться на Соловках. По этой причине Серафимович выбрал Шолохова, почти не имеющего образования. В двадцатые годы новой власти было выгодно создавать мифы о гениях из народа и творцах «от сохи». Именно Серафимович заметил начинающего Шолохова и помог ему с публикацией «Донских рассказов». Возможно, даже он был их автором и творцом феномена «Шолохов». После смерти Серафимовича в 1949 году, Шолохов не написал ни одного художественного произведения. Аникин даже высказывает предположение, что Шолохов был незаконнорождённым сыном Серафимовича, сиречь, Попова. А это-де фамилия барыни, у которой жила мать Шолохова… Михаил Аникин сравнил и построение фраз у Серафимовича и «Тихом Доне» с помощью методов математической лингвистики и пришёл к выводу, оно полностью совпадает.
Ну, тут я — пас. Алгеброй гармонию проверять — это по-сальериевски. Не верю я лингвоанализ. Но свои аргументы есть в пользу каждой версии.
Однако пойдем дальше.
...Первые три тома «Тихого Дона» появились в течение трёх лет: 1927-1929. По пятам был готов и четвёртый. В 1932 был готов и первый, весьма слабый том «Целины». Затем последовал перерыв в 27 лет. В 1959-м появился второй том «Целины» — позорный по уровню даже в сравнении с первым. Затем наступило четверть века уже полного молчания. И это тоже знак. Твардовский передавал, как Шолохов сердечно признался одному почитателю, что не только ничего не пишет, но даже и не читает давно ничего. Это не шутка и не выдумка. Шолохов не только не был писателем, он не был даже читателем, не освоил даже толком синтаксис и орфографию, и, чтобы скрыть малограмотность, дико невежественный, никогда прилюдно ничего не писал. От Шолохова после смерти не осталось никаких писательских бумаг, пустым был его письменный стол, пустыми были тумбочки, а в его библиотеке не было ни одной книги с его отметками и закладками. Никогда его не видели работающим в библиотеке или в архивах.
При этом всё это было объяснено и прославлено. В «Литературной газете» одним из шолоховедов после смерти гения был опубликован панегирик. «Все свои замыслы, восхищается он, Шолохов держал в голове, и писал сразу начисто, — никаких черновиков, никаких записных книжек». Тут, конечно, впору смутиться до трепета. Пушкин делал наброски, зачёркивал, переделывал черновики, снова марал и писал заново. Толстой Софью Андреевну изводил бесконечным переписыванием, Гоголь по восемь раз рукописи правил, а Шолохов, выходит, писал легко, как бы по озарению свыше, мук творчества не ведая и зря бумагу не переводя? Подлинно гений…
… 20 мая 1990 года журналист Л. Колодный объявил: рукопись первых двух книг «Тихого Дона» найдена, потом манускрипт был приобретён Институтом мировой литературы РАН. Колодный заявил, что отныне для утверждения шолоховского авторства и доказательств никаких не требуется.
Тут он погорячился, конечно. Открытие рукописи только поставило новые вопросы: с какой целью Шолохов, отлично знавший ее местонахождение, с 1947 года мистифицировал общественность, заявляя, что все рукописные оригиналы романа погибли от взрыва немецкой авиабомбы? Но и сам по себе факт записи текста романа почерком Шолохова ничего не доказывает. Любой бы, чай, догадался переписать своим почерком ворованное. Необходимо определить последовательность работы автора над текстом и доказать творческий характер этой работы. А этого нет. Беловая рукопись таким доказательством служить не может, нужен черновик. То, что черновик был, — несомненно: такие романы набело не пишутся. Однако по какой-то причине предъявить его никогда не представлялось возможным. Почему? Это очевидно. Потому что черновик не только не снимал с Шолохова подозрений в плагиате, но явно становился изобличающим документом. Посему, когда пришлось все-таки предъявить текст, мастерила его вся семья — Шолохов, жена и свояченица...
При этом мне не показалось, что в основе аргументации нынешних шолоховедов лежат научные исследования. По характеру отбора самих аргументов, нежеланию и неспособности вести диалог с оппонентами, алогичности и повышенной эмоциональности в дискуссии я вижу, что основная деятельность этих людей направлена не на выяснение, что происходило на самом деле в 20-е годы, а на поддержание существующей с советских времён мифологии. Их цель — не допустить пересмотра сложившихся представлений. При этом пусть современники, как говорят, и завидовали Шолохову, но ведь каждое новое поколение филологов тоже недоумевает. Поколение писателей — тоже. И я не завидую Шолохову, как можно завидовать несчастному спившемуся человеку? Я его жалею...
Вот пример "шолоховедения": Ф. Бирюков попытается доказать невозможность авторства Ф. Д. Крюкова. В его статье в качестве важного аргумента в пользу Шолохова приводится то, что персонажи романа имеют реальных прототипов, которых сам Шолохов хорошо знал. «Шолохов знал рабочего, вальцовщика с мельницы, Тимофея, прозвище — Валет. Был он красногвардейцем. Стал одним из героев романа...» И Бирюков не видит, что такой аргументацией, не подкреплённой критическим разбором и перекрёстной проверкой этих сообщений, открывается поле для самых произвольных умозаключений? Далее он пишет: «Автор полагал, что Валет погиб, изобразил его похороны, могилу. Но потом оказалось, что он жив...» Так почему же мы должны считать этого Тимофея прототипом? Чью могилу изобразил Шолохов?
Дальше — вообще перл. «На могиле какой-то старик поставил часовню... внизу, на карнизе мохнатилась чёрная вязь славянского письма: «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». «...Философская мысль та же, что у Пушкина...», сообщает нам Бирюков. На самом деле это стихи Голенищева-Кутузова: «В годину смут, унынья и разврата не осуждай заблудшегося брата...» При этом анализ дневников Крюкова подтверждает, что Голенищев-Кутузов был его любимым поэтом. Сиречь, строки любимого поэта Фёдора Крюкова лежат в основе сцены романа! А как же вальцовщик с мельницы по имени Тимофей? А фиг его знает.
И это — литературоведение? Поверхностными аналогиями можно доказывать всё, что угодно. Но проблема авторства при этом решена не будет. Далее Бирюков пишет: «Не смущает противников Шолохова и шолоховское признание, что Крюкова он не читал». Но, пардон, а Бирюков проверял достоверность шолоховских слов? Действительно ли Шолохов ничего не слыхал о Крюкове? А. Солдатов, знавший Шолохова с первых лет его жизни, утверждал, что Шолохов не только прекрасно знал имя Крюкова, но лично в 1918 году брал читать из их дома журналы «Русского богатства» с произведениями Фёдора Дмитриевича, а будущая жена Шолохова, Мария Громославская, училась в 1918 г. в Усть-Медведицкой гимназии, директором которой в то время был… Крюков. Поэтому и её заявления, что она, якобы, не знала и не читала Крюкова, направлены на сознательный обман исследователей. Крюкова на Дону не читал только неграмотный. А вот Бирюков отвечает на обвинения, что обокрасть Крюкова мог и тесть Шолохова: «А как мог будущий тесть Шолохова овладеть рукописями умершего Крюкова? И как он тогда, в 1920 году, смог предвидеть, что у него зятем будет не кто иной, а литератор?»
Это что, научное исследование или гадание на кофейной гуще? Как мог овладеть? Легко. В годы гражданской войны и разрухи, которая царила на Юге России, когда гибли в боях и от тифа тысячи и тысячи, когда сжигались и разрушались города и станицы, армии наступали и отступали, как отливы и приливы морские, а с ними вместе неслись потоки беженцев — можно было овладеть чем угодно. К тому же Пётр Громославский, отец жены Шолохова, успел пошалить ещё до революции. И в архиве Крюкова есть документ о проделках и махинациях, которые творил станичный атаман Громославский задолго до советской эпохи Более того, именно Крюков выступил публично с разоблачениями Громославского в 1913 г. в газете «Русское знамя». И Крюков сохранял документы о Громославском в своем архиве все последующие годы. Следовательно, и Громославский прекрасно представлял роль Крюкова в собственной «карьере», так некстати прерванной разоблачениями. Может быть, именно здесь следует искать завязку конфликта? И не искать ли эти документы пытался Громославский после смерти Крюкова в его архиве, когда «овладел рукописью»? Кстати, Громославский, добавлю, и сам писал очерки, так что зять-писатель ему не очень-то был и нужен, разве что реноме у атамана подпорчено было, а Миша был «чист».
Вы скажете, что это догадки… Конечно, но чем они хуже бирюковских-то? Тем более что фактов-то уже не осталось.
Много говорили о компьютерном исследовании шолоховского авторства. Это работы скандинавских лингвистов во главе с Г. Хьетсо, которые ещё в 70-е годы попытались применить методы математической лингвистики для проверки авторства «Тихого Дона». Их книга, изданная в СССР 1989 году, многократно цитировалась в работах шолоховедов. Ф. Кузнецов цитирует скандинавов: «Следует признать, что не все параметры, исследованные в этой работе, обладают одинаковой различительной способностью, но все они обнаружили единую тенденцию. А именно: Крюков совершенно отличен от Шолохова по своему творчеству, и что Шолохов пишет поразительно похоже на автора «Тихого Дона».
Об этом известно. Но журнал «Вопросы литературы»давно опубликовал научный разбор книги Хьетсо и его коллег, проведённый профессиональными математиками и лингвистами Аксеновой и Вертелем. В 1996 г. эта работа была опубликована в сборнике «Загадки и тайны «Тихого Дона». Сборник этот и Феликсу Кузнецову, и другим шолоховедам хорошо известен, но никакой реакции с их стороны не было. Они так и продолжали повторять выводы уже давно опровергнутой работы, злостно вводя читателей в заблуждение.
А вот что писали Аксенова и Вертель: «...Полученные скандинавскими учёными результаты допускали несколько интерпретаций, хотя в опубликованной монографии была представлена только та, которая подтверждала тезис об авторстве Шолохова. Усреднённые значения параметров не дают возможности выяснить, не был ли «Тихий Дон» результатом редакторской деятельности одного автора (Шолохова) над произведением второго автора (Крюкова), хотя именно этот вопрос остаётся наиболее важным. Они же добавляют, что использование иной методологической базы привело к совершенно иному отбору исходных данных, параметров исследования и методов обработки результатов. Иной оказалась бы и их интерпретация. В итоге получились бы выводы, диаметрально противоположные описанным в монографии. Работа Аксеновой и Вертеля заканчивалась предложением провести новые исследования, корректно сформулировав задачу проверки авторства с помощью математических методов. Как и следовало ожидать, ответа от шолоховедов так и не последовало...
Но это все современность. Однако неужели нет хоть одного свидетельства 30-х годов? Почему? Есть. Вот доктор технических наук, профессор Александр Лонгинович Ильский в далёком 1927 году семнадцатилетним юношей попал на работу в редакцию «Роман-газеты». На его глазах разворачивались события, связанные с публикацией романа. Он был, очевидно, одним из самых первых в Москве, кто держал в руках 500 страничную машинописную рукопись первых частей «Тихого Дона». Вот его свидетельство.
«Я, очевидно, являюсь одним из последних участников событий времён появления на свет произведения «Тихий Дон» в 1928 году, пишет он. Я на четыре года моложе Шолохова и в тот период с конца 1927 г. по апрель 1930 г., ещё молодым, работал в редакции «Роман-Газеты» техническим секретарём. Я часто встречался с Шолоховым, регистрировал его рукописи, сдавал в машбюро их печатать и практически участвовал во всей этой кухне, как из Шолохова сделали автора «Тихого Дона». Не только я, но и все в нашей редакции знали, что первые четыре части романа «Тихий Дон» Шолохов никогда не писал. Дело было так: в конце 1927 г. в редакцию Шолохов притащил один экземпляр рукописи объёмом около 500 стр. машинописного текста. Шолохову в то время было около 22 лет, а мне около 17. Редакция «Роман Газеты» была создана во второй половине 1927 г., состояла она из зав. редакцией Анны Грудской, молодой, энергичной троцкистки, жены крупного партийного деятеля Карьева, двух редакторов Ольги Слуцкой и Мирник, и меня — техсекретаря. В редакции были нештатные рецензенты: писатель А. Серафимович, он играл крупную роль в правлении РАПП, а также к редакции была прикреплена, вроде партийного цензора и воспитателя, старая большевичка Левицкая, у которой были связи в секретариате И. В. Сталина.
В то время, когда начиналась эпоха избиения русской интеллигенции, Шахтинское дело и процесс Промпартии во главе с проф. Рамзиным, высылка Л. Троцкого, запрещение публиковать Бунина, Пастернака и др. "непролетарских" писателей, Сталину надо было доказать, что всякая кухарка может управлять государством, не могло быть и речи об издании произведения, даже гениального, но написанного белогвардейским офицером. Нужен был писатель только с хорошей анкетой. Одарённых и способных людей если не ссылали и не расстреливали, то никуда не пускали. Вот подоплёка того, что выбор пал на Шолохова. У Шолохова оказалась подходящая биография и анкета. Он родом из казаков, родился на Дону, молодой писатель (уже опубликовал в 1926 г. "Донские рассказы"). Считали, что он молодой, это ничего, старшие помогут. Сделаем из него Великого писателя. То, что он не имел даже законченного среднего образования — это даже хорошо. Это подтверждало слова вождя о кухарке. А сам Шолохов? Он, конечно, согласился. Да разве кто-нибудь отказался бы от свалившегося на него такого подарка? Он вёл себя очень прилично. Сидел большую часть времени у себя в Вешенской и никуда не совался.
После выхода журнала «Октябрь» с публикацией «Тихого Дона» (№№ 1-10 за 1928 г.) поползли слухи, что это плагиат. Да и как мог молодой человек, без опыта жизни за один год отгрохать около 500 страниц рукописи такого романа? С апреля месяца 1929 г. публикация романа была прекращена. Однако издание "Тихого Дона" уже было запущено в "Роман Газете". Теперь А. Грудской и ее друзьям из шайки зарождающейся уже тогда литературной мафии, надо было срочно спасать честь мундира. Партфюрер нашей редакции срочно бежит в секретариат. Сталина к своей подруге и уговаривает ее подсунуть Сталину «Тихий Дон», чтобы он прочёл.
Действительно, он прочёл и дал добро. Это стало сразу общеизвестно. Грудская собирает всех нас, работающих в редакции, и заявляет, что она была в «верхах» и там решено, что автором «Тихого Дона» является М. Шолохов. Малейшее сомнение в этом для нас обернётся изгнанием из редакции. Правление РАПП выносит решение, и оно опубликовано в печати, что все те, кто будут распространять клевету на Шолохова о «плагиате» будут привлекаться... На этом, кажется, и закончилась эпопея создания «великого» писателя. Шайка партийной мафии выполнила свою задачу.
Шолохов, как мне говорили, больше приспособился к бутылке и чего-то нового так и не создал. Он пытался что-то писать, но так ничего и не получилось. Его дальнейшая судьба меня мало интересовала. Я ушёл работать в область техники, создал много новых машин, написал десятки книг, учебников и статей, по которым учатся тысячи студентов и инженеров. О том, что я пишу Вам, я не считал нужным говорить или писать публично. Плетью обуха не перебьёшь, так говорит русская пословица...»
А сколько таких свидетельств, которые могли бы помочь выяснить, наконец, спустя более полувека истинную историю создания романа, лежат ещё в чьей-то памяти или архиве под спудом?
… При этом меня могут упрекнуть в снобизме. Не может, дескать поверить, что мальчик из глубинки мог написать шедевр? Могу. Написала же эта девочка, как её там, «Bеsame mucho» в шестнадцать лет — и больше ничего. Что тут удивительного?
Но дальше — первый ступор. Если бы речь шла о поэме, кто бы возражал? Написать поэму каждый может. Но тут подвёл жанр. Эпопея — это вам не бесамемуча. Нам тыкают в глаза «Евгением Онегиным», начатым Пушкиным в двадцать три года. Да, начатым. А законченным через семь лет. И это гений! При этом это роман в стихах, но не эпопея. К эпопее подошёл только Толстой — так ему же за сорок было. Толстой тоже не был очевидцем и участником описанных им событий, но то, как создавалось одно из крупнейших мировых творений, видно по рукописям «Войны и мира»: в архиве сохранилось свыше 5200 мелко исписанных листов. По ним можно проследить всю историю создания романа. На протяжении первого года Толстой напряжённо трудился над началом. По признанию самого автора, множество раз он начинал и бросал писать, теряя и обретая надежду высказать все то, что ему хотелось. В архиве писателя сохранилось пятнадцать вариантов начала эпопеи! Работая, Толстой пользовался мемуарами, материалами газет и журналов эпохи Отечественной войны 1812 года. Много времени провёл в рукописном отделении Румянцевского музея и в архиве дворцового ведомства, где внимательно изучил неопубликованные документы, приказы и распоряжения, донесения и доклады, масонские рукописи и письма исторических лиц. Два дня Толстой пробыл в Бородине. И через семь лет закончил работу. Так к нему и вопросов нет. И никогда не было.
А тут другой гений пишет от руки за полтора месяца эпопею, между тем, её только на чистовик переписать — и то потребовалось бы пять. Пишет как очевидец и участник, причём описывает сенокосы, не умея косить, и разговоры в ставке белых, о которых ему никто ничего рассказать не мог: туда посторонние не допускались. При этом гений пишет без черновиков, сразу набело, как великий Ли Бо, экспромтом диктовавший поэмы! Может ли это быть? Получается, Толстой, дурень такой, семь лет убил на то, что у малограмотного парня из донской глубинки вышло за полтора месяца? Вот тут - однозначно не верю.
И заметьте: среди «антишолоховедов» много писателей. Почему? Нам говорят о зависти, но всё же отметим, что человек, сам пишущий романы, понимает суть литературного труда, он знает, откуда приходят сюжеты и образы, и прекрасно осознаёт, сколько лет заняла бы такая работа, как «Тихий Дон» у «не очевидца событий» при рукописном труде и работе с мемуарами. Лет семь-десять, не меньше.
И это ещё не всё. После ступора со временем написания и его объёмом идёт второй ступор. Образование и личность гения. Заметим, что Лермонтов, Бунин и Толстой тоже «университетов не кончали». Но там была гимназия, домашние бонны и гувернёры у Лермонтова и Толстого и индивидуальные занятия с братом у Бунина. Однако два с половиной класса образования Шолохова — и дневник студента в «Тихом Доне», в котором, как подсчитано моими коллегами, свыше трёхсот реминисценций из классики и поэтов Серебряного века, — от Бунина до Арцыбашева? При этом на вопрос, читал ли он Бунина и «Санина»? — наш донской гений отмалчивался и прятал глаза. Все, кто был знаком с гением, говорили о его несомненной серости. Но серость не может написать ничего яркого. Пушкин серостью не был. Гоголь — тоже. Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов, Куприн и Бунин — кого ни возьми, личности все были яркие. Как же это?
Ну, а третий ступор — вся дальнейшая жизнь гения, его сервилизм, душевная низость и бездарность. Поначалу все это можно было принять за мелочи. Но когда мелочей и несуразностей накапливается слишком много — количество, по Гегелю, переходит в качество.
И не надо обвинять меня обвинить в пристрастности. Я отстаиваю убеждённость, а не вкусовщину. Мне могут не нравиться Цветаева и Ахматова, но я не называю их ворами. Я не люблю Пастернака, но в плагиате его не обвиняю. Я не в восторге от Горького и могу обвинить его во многом, но не в воровстве чужих романов. Тут же я уверена в своей правоте.
Сразу по прочтении этот роман мне показался интересным и талантливым. Потом я узнала, что Шолохов написал его в двадцать два года. Я решила, что это ошибка, в романе было мышление человека лет сорока-пятидесяти. Ведь есть конкретный человеческий опыт, конвертируемый в творчество. Он во все времена один и тот же. Не может мальчик двадцати лет думать как мужчина пятидесяти. Есть, конечно, некое интуитивное понимание жизни, и иные в тридцать умней и пронырливый стариков, но тут не это. Дух «Тихого Дона» — это дух казака-дворянина, человека широкой души, зрелого ума и удивительного благородства.
А ведь нет писателя, не отражённого в творчестве! Благородство и светлый ум Пушкина проступают в его стихах и прозе, мятежность Лермонтова тоже видна, невероятный ум Достоевского заметен в его героях, а эпилепсия в «прыгающем стиле». Запутанность и нервность Цветаевой проступают в неясных и ломаных стихах, холодность Ахматовой — в ледяных чеканных строчках: всё видно, ничего не спрятать. Но тут — загадка века. Куда Шолохов задевал широту души, зрелость ума и удивительное благородство автора «Тихого Дона»?
…Стало быть, гений умер безвестным, а ничтожество процветало? Обыкновенное мелкое жульничество недалёкого человека? Э-э-э-э, нет! Это не мелкое жульничество. По подсчётам сотрудников Российской республиканской библиотеки только в СССР было опубликовано произведений Шолохова на 238 млрд. руб. в современном пересчёте. Часть этих денег была выделена «шолоховедам», не говоря уже о том, что Советское государство не скупилось на содержание «великого писателя» и его наследников. Но, пусть это одна из трагических страниц литературы, однако…
Задача любого подлога — ввести в заблуждение, и автор подделки будет стараться придать ему, по мере своих знаний, вид подлинного артефакта. И самое главное: перед глазами совершающего подлог должен лежать оригинал. И чем более взыскательному критику будет представлена на утверждение фальшивка, тем большей тщательностью должна отличаться её техника. Нередко до нас доходят не подлинные акты некой эпохи, а подделки этого времени. В таком случае и подлог приобретает значение: он даёт нам формулу не дошедших до нас актов. А значит, манускрипт, изготовленный Шолоховым вкупе с женой и свояченицей, сохранил в себе хотя бы немногие черты истинного облика великого произведения и дух его гениального автора…
