Русский композитор с французскими корнями
Автор: Игорь РезниковВ своей книге «Вторая родина – Россия» я напоминал о значительном вкладе иностранцев в развитие российской музыки. Заложили его еще итальянцы при Екатерине II, затем видную роль стали играть немецкие музыканты. Французы же долгое время были у нас в основном гувернерами и преподавателями своего родного языка, и лишь на рубеже XIX — ХХ веков из их среды выдвинулось несколько значительных музыкантов.
В их ряду в первую очередь следует назвать Георгия Львовича Катуара. Он из числа тех, чьи имена, к сожалению, забываются, теряются в памяти, как и их неоценимый вклад и наследие.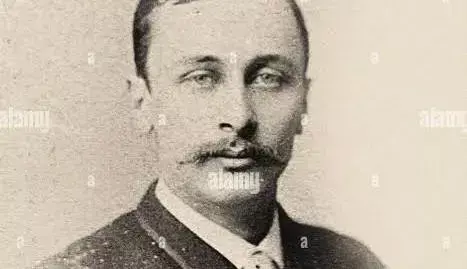
Его дворянские предки в начале XIX века прибыли в Россию из Франции, спасаясь от Наполеона. Его дед, дворянин из Лотарингии, открыл на новой родине много торговых и промышленных предприятий, в том числе кирпичный завод, продукцию которого использовали при постройке Верхних торговых рядов (ныне ГУМа) и Музея изящных искусств. Катуары построили также две железные дороги, где есть станции, названные их фамилией. Одна, Киевского направления от Москвы, во избежание путаницы была позже переименована в Лесной городок. А другая, в сторону Савелово, и сегодня носит свое название, известное многим москвичам. Крупными предпринимателями были оба брата Георгия Катуара, Андрей и Лев. Но только он один из их семьи посвятил себя музыке. Некоторое время он пытался участвовать в семейном бизнесе, но интерес к музыке взял верх.
Георгий Катуар родился в Москве 27 апреля 1861 года. Родители мальчика мечтали, что сын пойдет по их стопам, и отправили его после школы в Московский университет на физико-математический факультет — кузницу не только научных и инженерных кадров, но и деятелей искусства. Здесь учились писатели Герцен и Андрей Белый, драматург Сухово-Кобылин, виолончелист Давыдов, музыковед Сабанеев. Такой же путь выбирает и Катуар. В юности он учился игре на фортепиано у жившего в Москве Карла Клиндворта, друга Вагнера; в 1879 году вступил в Вагнеровское общество.
В 1884 году, по окончании университета, Катуар уехал в Берлин для продолжения музыкального образования у переселившегося туда Клиндворта; в консерватории Клиндворта -Шарвенки занимался также у Филиппа Рюфера.
Вернувшись через 2 года в Москву, он был представлен П. И. Чайковскому, высоко оценившему его способности. В Москве Катуар также общался с С. И. Танеевым и А. С. Аренским, которые прочили ему большое будущее. По совету Чайковского Георгий Катуар отправляется в Петербург, где занимается с Римским - Корсаковым и Лядовым. Но творчество кучкистов его мало привлекает, и композитор, так и не получив законченного систематического образования, возвращается в Москву. Здесь он остается до конца жизни.
Первые же сочинения Катуара — симфония, струнный квинтет, кантата «Русалка» — свидетельствуют о его ярком самобытном таланте и свободном владении всеми средствами музыкальной выразительности — гармонией, полифонией, инструментовкой. Однако родственники не поддерживают увлечений своего «блудного сына», считая его отступником от семейных традиций. Скромный и мягкий по характеру Катуар начинает сомневаться в своем призвании и на несколько лет вообще прекращает сочинять. Его произведения не пользуются широкой популярностью, их редко исполняют из-за их технической сложности. Сильным потрясением становится смерть Чайковского, который всячески поддерживал молодого композитора, одобрял и даже рекомендовал своему издателю Юргенсону, напечатавшему несколько сочинений Катуара. В результате он надолго замыкается в себе и уединяется в одном из своих подмосковных имений. Благо, состояние позволяет жить на личные средства и нигде не служить.
Новый этап творчества начинается на рубеже веков, когда Катуар пишет поэму «Мцыри» по Лермонтову, фортепианный концерт, сонаты для скрипки, романсы на стихи русских поэтов. Все они близки по духу позднему романтизму и перекликаются в чем-то с музыкой раннего Скрябина, Метнера, Аренского и других представителей московской школы. Им свойственны напевность, эмоциональная приподнятость, контрастность и яркость образов. В то же время они порой кажутся слишком «правильными», старомодными, лишенными каких-то неожиданных свежих решений и большого творческого размаха. Не случайно, композитор тяготеет к камерным формам и миниатюрам. Зато его богатый опыт помогает ему сформировать и определить четкое представление и понимание того, как сочиняется музыка, на чем она основана и из каких элементов состоит, что ему вскоре очень пригодится.
Сразу же после революции, лишившей Катуара всех сбережений и капиталов, он становится профессором гармонии, теории форм и композиции в Московской консерватории. Музыкант мгновенно включается в новую для себя педагогическую работу. Через «катуаровскую школу» прошли многие молодые музыканты того времени. Среди них композиторы Д.Б. Кабалевский, Л.А. Половинкин, В.Г. Фере, А.С Абрамовский, теоретики С.В. Евсеев, Л.А. Мазель, скрипач Д. М. Цыганов. Все члены «московской шестерки», знаменитого объединения студентов – композиторов, начинали свое консерваторское образование у Катуара: М.М. Квадри, Ю.С Никольский, Л.Н. Оборин, М.М. Черемухин, М.Л. Старокадомский, В.Я. Шебалин.
Ценным результатом преподавательской и научной деятельности Катуара стали два научно-теоретических труда, которые непосредственно связаны с его педагогической практикой. Это, во-первых, книга «Теоретический курс гармонии» (в двух частях, 1924-25 гг.) — первый в истории русского музыкознания опыт теоретического осмысления гармонии на основе функциональной теории Г. Римана и учения о гармонии Ф. О. Геварта. Она содержит немало новаций в гармоническом учении и не потеряла своей актуальности до наших дней. Во-вторых, учебник «Музыкальная форма», отредактированный учениками Катуара Мазелем, Кабалевским и Половинкиным.
Однако, несмотря на успешную научную и педагогическую деятельность Катуара, его творчество имело другую, более печальную судьбу. В московскую музыкальную жизнь он вошел как композитор и пианист одновременно со звездами уже следующего поколения – Рахманиновым, Скрябиным и Метнером. Громкая слава этих мастеров оставила в тени композиторское наследие Георгия Львовича. Несмотря на усилия Танеева (он посвятил Катуару Фортепианный квинтет g-moll), а позже Гедике, композитора Конюса, также потомка обосновавшихся в России французов и, особенно, его близкого друга Гольденвейзера, произведения Катуара звучали редко. Играли в основном Сонату-поэму для скрипки и фортепиано (1906), Трио (1900) и Концерт для фортепиано с оркестром (1909).
Однако наследие Катуара более широко и разнообразно. Им были созданы произведения почти во всех жанрах, кроме оперы: симфония, симфоническая поэма «Мцыри», кантата «Русалка», Концерт для фортепиано с оркестром, ансамбли (трио, квартеты, квинтеты), две сонаты для скрипки и фортепиано, хоровые миниатюры, скрипичные и фортепианные пьесы, романсы на стихи Лермонтова, Тютчева, А. К. Толстого, Апухтина, В. Соловьёва, К. Бальмонта.
В профессиональных кругах творчество Катуара высоко ценили Метнер, Рахманинов, Мясковский. Его музыку исполняли Гольденвейзер, Ойстрах, Ростропович, Коган, Анна Засимова, канадский пианист Марк Андре Амлен, немецкий скрипач Лоран Бройнингер.
А.Б. Гольденвейзер писал в своих «Воспоминаниях» о друге:
Личность Катуара была на редкость обаятельна. Это был человек тонкой культуры, исключительно скромный, абсолютно не обладавший никаким самомнением, никогда не выдвигавший себя. Катуар очень тяжело и болезненно переживал свое непризнание. Странным образом, даже музыканты склонны были смотреть на него чуть ли не как на дилетанта. Впоследствии оказалось, что этот «дилетант» не только был превосходным композитором, но и глубоким музыкантом-ученым, написавшим два крупных научных труда: по гармонии и по форме. На нас, друзьях, а также на учениках Катуара лежит долг — восстановить его память. Мы должны принять решительные меры к тому, чтобы его музыка опять зазвучала, чтобы наши молодые товарищи ближе узнали его прекрасные сочинения и полюбили их так, как они этого заслуживают».
Очень важным на пути к возрождению творческого наследия композитора стал проведенный в январе-феврале 2023 года под эгидой Московской консерватории фестиваль музыки Катуара. В рамках фестиваля было организовано три концерта, программа которых достаточно полно очертила творческий путь композитора. В Овальном зале консерваторского Музея имени Н.Г. Рубинштейна состоялось музыкальное собрание, посвященное памяти Г.Л. Катуара. После музыкальной части собрания был проведен Круглый стол, посвященный проблемам изучения и публикации творческого и эпистолярного наследия Катуара.
Открывая фестиваль, профессор Р. А. Островский, один из инициаторов его проведения, сказал: «Я не припомню другого композитора, чья, мягко говоря, сравнительно малая известность была бы столь непропорциональна высочайшим качествам его музыкального творчества. Имя Катуара, конечно, у многих профессионалов на слуху, но живое звучание его музыки – это огромная редкость».
Потомки Георгия Катуара продолжили его дело. Внук Г. Л. Катуара Павел Валерианович Месснер, и его ныне здравствующая правнучка Екатерина Павловна Месснер - оба пианисты и педагоги, профессора Московской консерватории.
