Рецензия на роман «Комиссар, часть 1. Порождения войны»
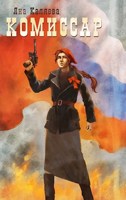
Кто не хочет к практическому психологу,
тот сейчас пойдет к психическому проктологу.
(с)
Книга попадает прямо в больное место, что и за сотню лет не прекратило нарывать. И уже потому оценивать ее беспристрастно невозможно.
С другой стороны, объективная оценка искусства точно так же невозможна. Искусство - это про личное восприятие, а оно в любом случае индивидуально. Поэтому я, как обычно, высказываю всего только собственное личное мнение, никоим образом не претендующее на статус абсолютной (а хоть и относительной) истины.
Начну как обычно, с языка - но тут же и закончу. Придраться тут не к чему. Текст написан грамотным русским языком, стилизованным в необходимой мере, чтобы не отвлекать от сюжета. Язык очерчивает персонажей достаточно, чтобы не путать начальника штаба с комполка Князевым, а их обоих со Щербатовым, Ванькой-Каином и Алмазовым. Есть и цитаты из Хэмингуэя, есть и шекспировский пинок собратьев по книжному рынку, автор вполне умеет выразить мысль точно и красиво - но все же красота однозначно тут уступает точности.
Суть всякой книги видится мне отнюдь не в идеальных описаниях природы и не в умении начинать два слова подряд всегда с разных букв - хотя и хвалят за стилистику Довлатова, но цитируют все-таки Жванецкого, Райкина и Задорнова. Вот серьезно, кто знает о Довлатове больше, чем о его офигенной стилистике? Кто сейчас без гугла вспомнит рассказы Довлатова?
Мне кажется, ценность языка - в умении донести до читателя авторское послание. А оно, послание, в книгах Пришвина и книгах Симонова, довольно сильно различается. Фильмы в стиле "нуар" снимают черно-белыми не потому, что в Голливуде цветная пленка кончилась.
Так и в "Комиссаре" - язык достаточно простой, ясный, чтобы не перетягивать на себя внимание, не отвлекать от крайне напряженного сюжета.
На все три тома меня зацепило всего лишь одно сомнительное применение слова. В первой книге мать Аглаи спрашивает: "... Как проистекает ее служба, как сама она?"
Формально "как проистекает ее служба" - не верно, правильно: "как протекает". Но ведь это говорит старая женщина, полубезумная от беспокойства о дочери. В таких обстоятельствах оговорка более чем простительна. Под правила русского языка случай вовсе не попадает, потому что персонаж - не автор - может применять любую лексику и любую грамматику. Это не авторская ошибка, а лексическая характеристика.
Так что язык текста могу назвать идеально подходящим под задачу.
Композиция книги простая, линейная, четко разделенная на три части. В первой книге завязка-расстановка фигур, очерчивание конфликта. Во второй книге действия и, наверное, кульминация. Наконец, в третьей книге совершенно несомненная развязка, ударная точка, которую при всем желании игнорировать не получится.
Ясный простой язык, линейная композиция - книга читалась одновременно легко и тяжело. Легко потому, что не спотыкался на привычных для дебютантов запятых между подлежащим и сказуемым, не путался во вставках-описаниях посреди действия.
Тяжело потому, что автор войну розовой краской не мажет. А тут все просто: либо ты героям хоть сколько-нибудь сочувствуешь, и тогда у тебя за них сердце болит. Либо бежишь по диагонали, не расстраиваясь - но и не вникая.
Самой тяжелой в чтении, вполне предсказуемо, была первая часть. Расстановка фигур, объяснение кто за кого играет, предыстория: почему. Во второй части, когда действие пошло широко и глубоко, с обеих сторон, уже как-то полегчало. Третью часть можно было и не читать, потому что направление движения после второй книги вырисовывалось исключительно четко, и оно нисколько не радовало. Если ты уже знаешь, что человек умрет - зачем знать, как? Болезненное желание посмотреть на муки и смерть? Так оно не у всех присутствует.
А что удержало интерес - хотелось узнать, какой же все-таки станет новая страна.
Потому что "Комиссар" - весьма умная и тщательно продуманная альтернативная история. Попытка честно, без подыгрывания той или иной стороне, довести партию до конца. Не "за белых", не "за красных" - за нечто единое для белых и красных.
Честно говоря, стать выше потягушечек "белые против красных" на моей памяти удалось считанным людям. Конкретно Звягинцеву с его "Одиссей покидает Итаку", а чуть поближе к нашему времени - Гатчинскому Коршуну; то есть, Величко Алексею Феликсовичу, конечно же. Сколько его ни ругали за лубочную подачу, примитивный язык, плоских персонажей и т.д. - а Величко все-таки первым очертил контуры политического решения, в котором гражданской войны вовсе не произошло за ненадобностью. И первая мировая происходила по совершенно иному сценарию изначально, и революция не случилась. Величко не сводил задачу к примитивному: "А мы вот сейчас дадим белой / красной армии стотыщ АКМ и двести танков, они выиграют".
Выиграют - а что ПОТОМ?
Помнится, у Льва Вершинина была такая альтернатива, называется "Первый год республики". Там декабристы победили - но проблемы, внезапно, никуда не делись. Остались без ответа три вечных русских вопроса:
Кто виноват? Что делать? На что сподвижникам земли без крепостных?
Автор "Комиссара" честно пытается показать разрешение всех трех вопросов, и уже этим "Комиссар" ценнее сотен старательных переписчиков заклепок из Википедии.
В отличие от Гатчинского Коршуна, в "Комиссаре" нет никаких интермедий- интерлюдий- реминесценций от лица внешнего наблюдателя или сухих рассуждений, лекций "на зрителя". Все, абсолютно и полностью все события новой истории, показываются сугубо и трегубо через действующих лиц романа. Лица из всех сословий - от восставших крестьян Тамбовщины и до министров Новой России - каждый со своей страстью, каждый со своим пунктиком. Что доктор, дважды мобилизованный, сперва красными, потом белыми - и все-таки упорно цепляющийся за собственный идеал нравственной правды. Что генерал Вайс-Виклунд, восхищавшийся дочерью до самой последней секунды. Что Вершинин, вроде бы предатель и мерзавец, и все же одна из сильнейших пружин действия, в конечном итоге свершившая... Благом его свершения назвать сложно, скажу так: в конечном итоге Вершинин сделал, что был должен и оказался той самой деталью, которую не изымешь незаметно.
Или вот взять французского посланника Реньо; он как раз выглядел для меня слегка плоским - но ровно до момента, когда Реньо осадил Щербатова: вы тут, в Новой России, строите Новый Порядок - а мы строим Новый Порядок в масштабе планеты. И вам, русским, отведено в Новом Порядке определенное место; и вы не вправе обижаться, потому что сами вы отводите своим крестьянам нижнюю полочку именно из тех самых соображений.
Впрочем, тут пора обсудить уже и саму альтернативную историю.
Главнейшим фантастическим допущением в альтернативе становится первоначальный выигрыш белых. Автор показывает все ступени поражения большевиков. Красная Армия вовсе не рушится от единственного удара - армия (в которой главная героиня романа, Александра Гинзбург, служит, внезапно для забывших заголовок романа, комиссаром) отступает с боями, с кровью, теряет людей понемногу, помалу. И садится в глухую оборону посреди тамбовских лесов, и волки тамбовские начинают играть вполне себе важную роль. Стрелять-то зверье повстанцы не могут, чтобы не выдать себя шумом. Вот и приходится героям исхитряться, крутить сюжет.
Белые, получив бразды правления, оказываются перед необходимостью все же решить крестьянский вопрос, и все же признать самостоятельный "черный передел" помещичьих земель крестьянами. А помещикам уплатить компенсации. А союзникам, за помощь и военные поставки - тоже уплатить. А на строительство Новой России тоже средства ведь нужны...
Где деньги, Зин?
И вот Новая Россия чудесным образом превращается в сырьевой придаток Европы. Концессии на бакинскую нефть, на донбасский уголь, на сибирский лес, на...
Здесь ничего сверхнового или невозможного нет, именно такой вариант развития событий верхушка Белого Движения очень даже обсуждала и фиксировала в дневниках - как вариант поганый, а все-таки возможный.
Но крестьяне, понюхавшие при большевиках малость свободы, вовсе с таким вариантом не согласные. Они бунтуются, они тысячами бегут из концлагерей на Тамбовщину, где пока еще держится Народная Армия. Да, Тамбовское восстание тут подавляют белые, а не Тухачевский - но, вот совпадение, Щербатов пишет ровно тот самый приказ, ровно теми самыми словами. И по тамбовским лесам разливается иприт, и никто конкретно не виноват - война!
А Франция в лице хитроумного Реньо точно так же поддерживает не сдающихся большевиков Народной Армии, как в реальной истории поддерживала Деникина и Колчака, и из тех же соображений: пока у соседа дом горит, можно с фартом сервант вынести, гарнитурчик там, потретик со стены - ну, типа, спас. Если же посулить соседу пожарный шланг и ажно цельный литр воды, так сосед с невыкрутки сам все свои захоронки вскроет и у тещи последние золотые зубы выломит.
Все это автор описывает детально, подробно, через поступки героев. Белые тут вовсе не мальчики для битья - они успешно воплощают некоторые социальные программы, они пытаются дать России будущее - как они, "благородия", это будущее видят. Белые побеждают не просто громким хрустом французской булки - о нет, они даже жилищную программу пытаются реализовать, самую малость не додумываются до хрущевок. В то же время белые отваживаются на эксперименты с медицинским успокоением смутьянов, понемногу вводя в обиход лоботомию - понятно, под иным названием - и химиотерапию.
Проблема в том, что по статистике 1907 года, Россия была крестьянская на 85% процентов. А крестьянам в Новом Общественном Порядке была отведена все та же нижняя и худшая полочка - точно как самой России европейские спасатели сервантов отводили нижнюю полочку в пост-Версальской картине мира. Коротенькое напоминание об этом французского посланника Реньо кажется мне великолепной находкой автора, отлично связывающей события в России с Версальским дележом мира.
Вот именно поэтому представленный вариант альтернативной истории кажется мне невозможным, несмотря на всю его продуманность и вызывающую уважение историческую точность в деталях, в поступках определенных лиц. Большевики все-таки обещали крестьянам волю и землю, колхозы появились только через десять лет, когда не помогли ни тресты-артели-коммуны, ни НЭП.
А белые обещают всего лишь: "вернуть все, как раньше, только без царя". Словами Маяковского: "Раньше обжирал один, а теперь обжирают ротой. Республика оказалась тот же царь, только сторотый".
Кстати, о Маяковском. Весьма удачной находкой автора считаю, что фамилии наиболее известных исторических деятелей тут не мелькают. Автор умело пользуется героями второго плана, второго эшелона. Вместо Троцкого Князев и Антонов. Один умеет поднять народ на бой, а второй может объяснить, за что. И начштаба Белоусов, который все рассчитывает и продумывает, чтобы никто не обидел этих двух интеллигентов. На стороне белых вместо Колчака - Щербатов, вместо Деникина - Алмазов, и так далее.
Но, по закону диалектики, если честно продолжить игру именно фигурами второго плана, то политическая конструкция романа становится мало правдоподобной. Допустим, убьют Ленина - его заменит Троцкий или Сталин, и еще вопрос, от кого буржуям поплохеет больше. Возьмут белые Петроград или Москву - и что? "Наша стала Москва, но чья вся остальная Россия?"
Старая и новая столицы бывали уже под царем, а у царя была армия в два миллиона, и жандармы, и попы - и все-таки положение страны при царе было столь невыносимо, что не спасли ни попы, ни жандармы, ни вековая вера "народа-богоносца" в доброго "царя-батюшку". Большевики пообещали народу землицы, и восемьдесят пять процентов смели пятнадцать. Тем паче, что пятнадцать процентов были разобщены на монархистов и либералов, оборонцев и пораженцев и так далее.
Допустим, пятнадцать процентов волею автора объединились и резко поумнели. Выработали свою платформу, нашли, что пообещать селянам - но тогда и большевики найдут, что пообещать людям еще. Героиня романа нашла ведь, что сказать остаткам Пятьдесят Первого полка, хотя ни земли, ни воли на тот момент большевики дать уже не могли, после потери Петрограда и Москвы полк уходил в леса, к Антонову.
Большевики пугали людей чекистами и чоновцами - но и белые ужасают огп-шниками и принудительной химиотерапией.
Главное, чего у белых никогда не будет - они не признают крестьян людьми равными. А это уже не просто лично мое "нравится - не нравится", это вразрез с реальным историческим процессом. Абсолютно все восстания, сколько их было на Земле, от Спартака до Великой Французской революции, требовали прежде всего уравнения в правах - следствием из равных прав было улучшение экономического положения восставших. Равноправия нет в белой программе Щербатова - Алмазова. Сиди смирно в хлеву, селянин, коровам хвосты крути, а не то вовсе в овощ превратим! И потому проигрыш белых в "Комиссаре" представляется мне неизбежным. Ведь и Бурбоны вернулись во Францию после поражения Наполеона - но распробовавший волю народ не пожелал их принять, и кончилось все Второй Республикой, а вовсе не Новым Общественным Порядком.
Вот в такой чертовой каше герои романа не просто выживают и плывут по течению. Нет, они действуют, не гнушаясь никакими средствами и методами, от гипноза (в романе называется мессмеризмом) до работорговли.
Героев романа лично я выделяю несколько.
Первый, конечно, сама комиссар, Александра Гинзбург. Назвать ее судьбу романом взросления все равно что назвать Рагнарек, полное крушение мира, всего лишь переездом на новую квартиру. Крестный путь, сага - но для романа взросления происходящее с ней не то, чтобы сложновато - лежит в иной плоскости. Это все равно, что у Дюма повзрослеть пытался бы Атос.
Второй коллективный герой - это красные. Урицкий, Бокий, Доценко, Князев, Белоусов, Прохор и Лекса.
Третий коллективный герой - это белые, но не все. Андрей Щербатов и его сестра Вера, очень активно действующая в сюжете, очень сильно влияющая на самого Щербатова, на его отношения с Александрой, фигура крепкая, но все-таки без Щербатова неполная. Вера тут парадоксальным образом получилась деятельной ипостасью Щербатова, который скорее "претерпевает стражение", нежели сражается. Сам Щербатов больше рубит-стреляет и даже не лично: договорами, приказами - а Вера все-таки конструирует будущее. Она чуть ли не единственная в белом лагере думает о том, куда рулить дальше. Она единственный по-настоящему идейный противник Александры.
Наконец, последний коллективный герой - по счету, но не по важности - дети. Контрастом Ванька, так и не попавший в будущее, и дети Князева, все-таки пережившие Рагнарек, точно как Лив и Ливтрасив в скандинавской мифологии.
Дальше идут персонажи: они важны, колоритны, но все-таки не воплощают полюса конфликта. Аглая - богиня войны. Вершинин, бог обмана и торговли. Реньо, сила внешняя, в буквальном смысле слова потусторонняя, из-за кромки, "зло запредельное", отличный символ общей угрозы, объединяющей красных и белых - но именно поэтому бесплотный, контурный, мерцающий, практически не показанный в действии, хотя уши его торчат мало не из каждой сцены.
Почему я не объединяю героиню ни со Щербатовым ни с Белоусовым, которые Александру любили, каждый по-своему, но несомненно?
Потому что Александра отталкивается от них обоих, как бильярдный шар от двух бортов - а идет комиссар все-таки на цель; и только пережившие Рагнарек дети Князева могут оценить, получилось ли у комиссара, не напрасны ли были жертвы.
Внезапно, оценки итога в тексте нет. "Да, но нет" - как сказала бы главная героиня.
Если воспринимать книгу как сагу о людях - интервью от Насти Князевой представляется лишним. История Александры четко завершена еще в оконцовке второй части, ей вся третья часть один огромный эпилог.
Если считать книгу картиной альтернативного будущего - очень редкого будущего, не за белых, не за красных - за... Людей, наверное? Так вот, для альтернативной истории эпилога недостаточно. Что получилось из страны? Насколько мир изменился? Какое правление в Новой России, если не белое и не красное - то чье, какое? На чем поладили? Советы без коммунистов? Коммунисты без советов? Третье?
И что там на внешних границах происходит: выкормили все же Адольфа? Была польская "Военная тревога" в 1927м? Восстание в Испании? Халхин-Гол? - все это так и осталось за кадром.
Несмотря на неполученные ответы, лично я считаю книгу исключительно хорошей работой, подлинной редкостью, и вот почему:
- книга представляет собой истинную альтернативу, на фоне сотен приевшихся подыгрышей той или иной стороне.
- но и на фоне удачных находок "третьего пути" книга выделяется. Например, тот же Величко гражданский конфликт обходит, купирует в зародыше. Вершинин в "Первом году Республики" капитулирует перед конфликтом. Автор "Комиссара" конфликт уничтожает. Вместе с конфликтующими сторонами.
- книга написана вполне продуманно. Трудно спорить о реалистичности тех или иных политических решений и ходов дипломатии, потому что гражданская война представляла собой истинный кровавый хаос. Удавались полные авантюры и проваливались самые продуманные планы. Но автор озаботилась показать в деталях действия обеих сторон конфликта. Если эти детали не во всем достоверны, то, по крайней мере, они достаточно правдоподобны, чтобы передать дух времени. Кому это покажется слабым оправданием, тому я осмелюсь напомнить, что мы все-таки рассматриваем художественное произведение, а не монографию о влиянии Брест-Литовского мира на урожайность зерновых в Екатериноградской губернии.
Что же касается минусов книги, то мне все-таки хочется знать: во имя чего ломали героев? Что получилось в итоге со страной, а не только с людьми? Чувства и разум как правая и левая нога, книга должна стоять на обеих. Здесь, мне кажется, перекос в чувства.
Благодарю автора за хорошую книгу.
КоТ
Гомель
7 III 2023
