Рецензия на роман «Комиссар, часть 1. Порождения войны»
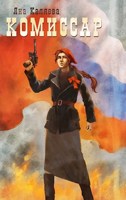
Проблематику романа Яны Каляевой «Комиссар» можно выразить формулой «красный взгляд на белую альтернативу». История, в общем, ответ дала — альтернатива красным это коричневые. На тех территориях павших в ходе первой волны мировой революции империй, куда не пришла Красная Армия, установились националистические диктатуры. Мир без СССР в результате контрреволюции сверху 1989-93 гг. резко качнулся вправо, а без советского опыта был бы еще правее. В XX веке развитие, даже зависимое, не говоря уже об успешной индустриализации, не было возможным без институтов госдирижизма и социального государства. Опыт СССР показал, что социалистический уклад самодостаточен и частное предпринимательство более не необходимо. Исчезновение оригинала аннулирует и копии: «азиатские тигры» останутся полуколониями, Кейнса сочтут опасным чудаком и даже фашизм окажется не европейской, а латиноамериканской модели — национал-элитаризм вместо национал-популизма. Подменяя универсально-классовую солидарность (а всякий общечеловеческий интерес есть также интерес трудящихся) солидарностью национально-ограниченной, солидарностью банды место солидарности трудового коллектива, фашизм все же вынужден искать поддержки масс. Однако без света нет и тени — если хамов разогнали по щелям, то и в социальных программах нет никакой нужды, достаточно «эскадронов смерти» из «сверхчеловеков». Мир где революция проиграла хуже мира, в котором революция еще не случилась.
Мир не сумевший сделать первой попытки восхождения к коммунизму является фантастическим допущением автора. Можно выдвинуть гипотезу о мотивациях. Через рефлексию героев просвечивают современные политические дискуссии. Во-первых, сама необходимость оправдания революции возникает только после поражения в конечном счете. Однако контрреволюция сверху, капитуляция в холодной войне двух систем произошла на другом историческом этапе развития, после завершения индустриально-урбанистического перехода, поэтому мир с опытом социализма необратимо иной — альтернативное социальное бытие было предъявлено. Во-вторых, в тексте можно усмотреть заочную полемику с романом Елены Чудиновой «Победители» — зеркальное отражение дискурса о белых рыцарях, побежденных, но не сломленных, в чем-то перекликающееся с троцкистским комплексом вечных проигравших. «Если долго всматриваться в бездну, она начинает всматриваться в тебя», поэтому лучше «оставить мертвых хоронить своих мертвецов» и говорить от имени будущих поколений.
Некроэстетика одно из основных выразительных средств романа. Весьма показательна в этом отношении завязка романа. Александра живет вместо убитой сестры Юдифи. При первой встрече со Щербатовым Саша ведет себя рационально, но противоестественно: не бросается помочь больному, а отстранится, ведь он тифозный, зашибленный. Исцеление подменяется сеансом каббалистической некромантии — Юдифь поднимает труп своего Олоферна. Правильные действия Саши — явится на квартиру сразу с каретой скорой помощи из военного госпиталя. Спасение жизни безусловный императив, а не предмет торга. Медицинскую помощь оказывают даже пленным врагам, а Щербатов еще не стал врагом. Александре Революция вручила право карать, а значит, тем более, вручила право спасать — Родина делаем выбор за своих сыновей. Однако Саша проваливает и роль матери и роль возлюбленной.
В биографии Александры Гинзбург много пробелов и неясностей — она скорее собирательный образ, чем живой человек. Сквозь персонажа заметно высшее образование автора, однако «провинциальной еврейке» хорошее образование получить было затруднительно. Хедер и иешива только для мальчиков. Переход в православие лишает поддержки общины. Путь в женскую гимназию для дочери сапожника закрыт, а семинария опять-таки только для юношей. В период реакции вольнослушательниц пытались изгнать из университетов. Наконец в Санкт-Петербургском императорском университете не было философского факультета, а все общественные науки были сосредоточены на юридическом. Имидж посетительницы салонов, «имевшей романы» и пробовавшей кокаин (не понравилось) плохо согласуется с деятельностью профессиональной революционерки из рабочей среды. Например, будущая супруга председателя СНК В.М. Молотова Полина Жемчужина до 1917 работала на фабрике, а не по месмерическим салонам болталась, и образование ей удалось получить уже после революции. Знаменитые женщины революции чуть более старшего поколения происходили из привилегированных слоев. Александра Коллонтай — дочь генерала. Розалия Землячка — купца первой гильдии, а этот статус освобождал от черты оседлости и давал доступ к образованию. Наконец Лариса Рейснер — прототип женщины-комиссара из «Оптимистической трагедии», послужившей одним из источников вдохновения автора, близкая по возрасту главной героине — была дочерью профессора из русского дворянского рода германского происхождения. Богемный образ жизни Ларисы Рейснер соответствовал её социальной среде, а в случае Саши Гинзбург это не выглядит достаточно достоверным. Более того, в качестве объяснения подобного решения образа не подходит и проекция современности — в России круги левых активистов и светская тусовка пересекаются слабо. А вот кто точно составляет основу образа, так это ефремовская Фай Родис из «Часа Быка». Маркер-отсылка — обсуждения потенциальной способности остановить сердце. Противостояние свободной женщины и мужчины-тирана, техники воздействия на сознание это все оттуда. И именно массовая психофизиологическая обработка населения подобная «культу змея» на Тормансе, только стилизованная под православие, закручивает воронку инферно.
Противопоставление рационального убеждения и подсознательного внушения составляет основную коллизию романа. Вот только колдовство не превратит обычного офицера в гения политической манипуляции, а доктрину фашизма нельзя просто внушить гипнозом. Муссолини до внезапного поворота направо был редактором газеты «Аванти!» и без этого социалистического бэкграунда не смог бы быть убедительным для масс. Политические программы нуждаются в теоретическом обосновании. Доктрину фашизма помогал сочинять правый неогегельянец Джентиле. Более того, итальянская школа элитизма в социологии во многом формировалась как рефлексия тех политических практикXIX-XXвв., которые привели к фашизации Италии. Философским рупором германского нацизма выступал правый экзистенциалист Хайдеггер. А наиболее видный правый идеолог русской эмиграции Ильин предпочитал профессорский паек в красной Москве лишениям ледяных походов белого движения. Впрочем, антибольшевистский лагерь не испытывал недостатка в интеллектуалах просто в силу монополии имущих классов на образование, однако это не спасло ОСВАГ от идеологической импотенции. И еще один начинающий политик не изменил бы этого соотношения сил. В конце концов, для реализации политической программы нужна партия, а фашистские организации белых возникли уже в эмиграции.
Политические программы противоборствующих сторон в книге обозначены весьма схематично. Щербатов держится за одну единственную внушенную фразу — «найти каждому свое служение», которую можно понимать и в левом («от каждого по способности») и в правом (неизменная иерархия каст) смысле. Однако и Саша не лучше. «Без большевиков у России нет будущего» это проекция политических споров после 1991. Это самая тощая абстракция негативной программы. В реальном 1918 уже были заложены основы социального государства, правда без ресурсного наполнения. Если комсомольцам Гражданской показать советское общество 50-х, они бы увидели сбывшуюся мечту — могучую индустриальную державу, где ни голодных ни богачей. А ведь поздний сталинизм и ранняя оттепель это самое начало городского стандарта жизни. Мирный атом и покоренный космос оказались бы уже за гранью мечты — 70-е вызвали бы футурошок как в кинокомедии «Замороженный». Реальность превзошла социально-экономические ожидания, потому что возник новый способ производства с заранее непредсказуемыми свойствами, а вот политические ожидания наоборот оказались завышенными — мировая революция в полном объеме не состоялась.
В целом, сценарий победы белых нельзя счесть в полной мере реалистичным —это скорее подобие нашествия буржуинства из сказке о Мальчише-Кибальчише. Конкретно зимняя кампания 1918/19 гг. объективно складывалась удачно для Красной Армии и негативные развилки находились либо раньше, либо позже. Альтернативой военному перевороту Колчака был только военный разгром Директории. Белые не могли взять на вооружение и эсеровскую, ни тем более большевистскую программы—доверия бы они не завоевали, но все сопутствующие издержки приобрели бы. Отмена продразверстки или иных форм реквизиции продовольствия даже на обеспеченных зерном территориях белых вела бы коллапсу снабжения армии. Середняки могли поддержать кулаков против продразверстки и комбедов, но не нашлось бы ни чего, за что середняк мог бы объединится с кулаком. На свои места все бы встало, если бы историческим контекстом была бы Гражданская война не в России, а в Испании, но франкисты победили политический аналог правительства Керенского (сравниваем со свержением директории Колчаком) и Гинзбург тогда была бы активисткой ПОУМ. Иными словами, левая диктатура спасла Россию от диктатуры правой и позволила реализовать принципиально новую модель социального развития.
Рецензия может показаться чересчур критичной, однако это не умаляет, а наоборот подчеркивает достоинства книги. Книгу, которая побуждает спорить и размышлять безусловно стоит прочесть!