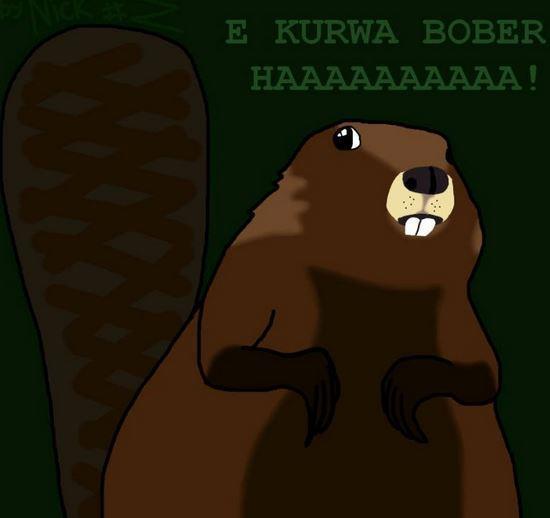Рецензия на роман «Айтиот»

Рецензия на роман "Айтиот" автора Яны Каляевой
Театр начинается с вешалки, книга -- с названия. На обложки я обычно внимания обращаю мало. Обложкой заведует редактор серии и художник. Бывают книги без обложки или с оторванной обложкой. Помнится, во времена оны читывал я распечатки с АЦПУ, так там не только обложек -- строчных букв не было, БЫЛИ ТОЛЬКО ПРОПИСНЫЕ, ВО КАК. И НИЧЕ, ЧИТАЛИ И НЕ ЖУЖЖАЛИ. Сегодня гляну на рецензии и весь вздрогну: тому отзыванту обложка не зашла, этому критику цветовая гамма шрифта... С ужасом жду, когда прогресс кибенематики позволит пробовать переплет на вкус: мы тогда окончательно в библиотечных мышей превратимся, а лента рецензий утонет в буквальных отрыжках. Сейчас-то они хотя бы воображаемые, дышать можно.
Поэтому черт с ней, с обложкой. "Не бог весть что, обойдемся и без"(с).
В противовес обложке, книг без названия просто нет. Если даже ученые находят где-то в недрах истории неозаглавленный манускрипт или там петроглиф, и то сразу же дают ему имя. Либо для отличия от всех остальных прочих, либо напротив: некоторые названия даются нарочно для обозначения связи с чем-то, на что автор хочет намекнуть. Или опереться. Или оспорить это. Так или иначе -- связать.
Нетрудно сообразить, что слово-утконос "Айтиот" выражает связь книги с двумя архетипами. Первое, конечно, "Айти", то есть IT. Не АТ -- наш сайт по ихней аглицкой грамматике звучит "Эй-ти". Эй, ты!
Второй корень в нашем слове-утконосе суть "идиот". Значений у него лично мне известно три штуки.
Первое, самое древнее -- будто бы ахеец из Фив либо там Коринфа, вовсе не интересующийся политикой, не голосующий на агоре в Народном Собрании, именовался "идиотом".
Второе значение, по времени чуточку ближе к нам, появилось в средние века. Якобы, при переписывании древних книг на мертвых языках (латынь, древнегреческий, арамейский и прочие там коптские-иберийские) для массовости тиража применялись монахи, языков тех вовсе не понимавшие, а всего лишь тщательно копирующие буковки. Если даже в книге попадалась ошибка, такой монах ее не замечал, соответственно, не мог и исправить. Вот эти говорящие принтеры и назывались "идиоты".
Проверять, действительно ли оно так, долгонько и здесь неуместно. Мы все-таки на литературном сайте. И литература тут у нас покамест, несмотря на колоссальные усилия господ офицеров, голубых... э-э... князей... все еще русская.
А в русском языке "идиот" суть человек, делающий глупости. Не обязательно дурак, не обязательно умственно отсталый. В языке это все разными словами обозначено. Идиотизм условно можно определить как "действия из нерациональных побуждений, не имеющие смысла".
И вот здесь мы вступаем на офигенно тонкий лед. Как те крестьяне, выкопавшие на поле черную бронзовую волчицу. Лишнее движение лопатой -- и мы зацепляем каменный член спящего под землей гиганта.
У слова "член" тоже несколько значений. Но того, что нам покажет разбуженный титан, вряд ли прозрит и столь преисполненный членознатец, яко Бальтазар Блуд суть.
Потому как самый знаменитый идиот русской литературы -- князь Лев Николаевич Мышкин из романа Федора Михайловича Достоевского под названием, кто бы мог подумать -- "Идиот". Роман этот входит в золотой фонд классики, имеет все необходимые признаки: огромную длину что самого текста, тако же и абзацев, и предложений в нем; текст насыщен всевозможными рассуждениями о чем угодно; наконец, роман рисует тяжкую драму "свинцовых мерзостей русской жизни" и рисует оную драму не менее весомым языком. Понятно, что этакая глыбища изучается не только в России. Что конкретно преподается на примере сего романа, мне неведомо. Может статься, несчастные буржуеныши охреневают от величия загадочной русской души, способной пережить прочтение подобного кирпича. После такого романа человека на орбиту вывести дело плевое. Достаточно книжку отложить и воспаряешь тотчас. Главное -- чтобы наземная команда стул потушить успела.
Вот каковая хтоническая тварь призвана из прошлого неосторожным обращением с единственным и первым словом романа; не знаю, что имелось в виду автором -- но я буду рассматривать "Айтиота" в отблесках кроваво-алых глаз разбуженного чудовища.
Здесь настала пора для небольшого отступления. А то вдруг читатель заскучает. То есть, он все равно заскучает, не зря же я текст под Федора Михайловича стилизую. Хотя бы в части объема, длины предложений, и вытекающей из оной ритмики чтения. Но небольшой le scandale в духе той же стилизации будет аккурат к месту.
Как я могу судить по блогам последних двух месяцев, аудиторию сайта составляют в немалой степени господа офицеры, голубые князья. Не скажу за княжеское достоинство, но в голубизне иных персонажей сомнений остается все меньше. Так вот, вся публика сия по образована и культурна. И, разумеется, русскую-то классику господа офицеры знают "на ять". Легко держат в уме сходства и различия между "Идиотом" Достоевского, "Бесами" Лескова, "Самоубийством" Алданова, и могут прямо на пальцах объяснить все сии многоразличия неучам вроде вот меня.
Я могу назвать своих предков только до 1856 года, когда самый что ни на есть обычный, рядовой конник не то из польских повстанцев, не то из усмирявших их войск, послал тех и других в пешее эротическое
и поселился в густых брянских лесах. По странному совпадению беглец забурился в деревню, которая сейчас находится почти на стыке России-Беларуси-Украины. Четыре километра до узла границ. Шпиль монумента Трех Республик с кладбища, с нашего родового места, видно.На чьей территории деревня сейчас, не скажу. Оно как при СССР не было важно, так и сегодня всем пофиг. По кардинально разным причинам, для данной рецензии вовсе несущественным. Существенно, что не случись революции, я бы так и вертел коровам хвосты. Или просто помер бы в детстве от обычнейшей пневмонии либо столбняка. Потому что и простужался я и оцарапывал ноги-руки как положено всякому мальчишке, регулярно. И в Российской Ымперии, что ее господа офицеры, голубые, хм, князья, все тщатся возродить, Достоевского я уж точно вряд ли бы читывал.
Для таких вот бедолаг, кому к культуре приобщиться не вышло, я сейчас "кратенько, на два часа"(с), перескажу содержание "Идиота" исходного. А потом, в свете, так сказать, и в духе -- посмотрю на "Айтиота" производного. Ну потому что доколупываться до автора за язык или там композицию уже поздно. Да и не к чему особо там цепляться. Автор грамотный и владеет секретной магией вызова внешнего редактора.
Итак, роман Федора Михайловича Достоевского "Идиот". Объем романа -- 1,5МВ по счетчику. То есть 37,5 а.л.
Язык романа дореволюционный русский, весьма многословный, изобилующий отклонениями от главной темы, повторами, тщательно теребящий каждое переживание героя, и потому тяжелый для понимания. Композиция романа пытается быть линейной, но из-за неимоверного количества отсылок всех действующих лиц к собственному их прошлому, из-за воспоминаний, многословных диалогов, слов-паразитов (у персонажей, никоим образом не у автора -- но их там стооооооолько!) -- в общем, по всем вышеуказанным причинам нить повествования крутится, как гадюка под вилами.
Роман состоит из четырех частей.
В первой части герой романа, князь Лев Николаевич Мышкин, прибывает поездом в Петербург из Швейцарии. В Швейцарии, в клинике, князь с самого детства лечился от некоей психической болезни, проявляемой внезапными припадками. Благодетель князя умер, тем самым перестав платить за лечение, и добрый доктор, выдав князю денег ровнехонько на билет, выпнул его за ворота.
И вот князь едет поездом Варшаво-Петербургской дороги и прибывает в Питер на Витебский, я так думаю, вокзал. По пути князь знакомится с купцом Рогожиным, обсуждает с ним питерские сплетни: кто с какой куртизанкой являлся в свете, кто кому руки не подал, и тому подобное. С вокзала пути их расходятся. Князь отправляется к генералу Епанчину, надеясь там найти хоть какое-то пристанище или зацепку. Рогожин отчаливает по своим делам. Переговорив с Епанчиным, князь там замечает портрет Настасьи Филипповны, одной из дам, что обсуждал с Рогожиным в поезде. Генерал замечает это, быстро выпытывает из прямодушного князя все сплетни и вместе с князем едет к этой самой Настасье Филипповне -- в данном случае неважно, зачем. Достоевский посвятил этим приуготовительным объяснениями порядка десяти страниц, так что кому интересны подробности, милости прошу. Для нас важно: князь Мышкин ведет себя откровенно и очень простодушно. "Князь не мамонт, князь не вымрет" (с) -- именно такая ситуация.
Разумеется, как положено в первой части путнего романа, князь в эту Настасью Филипповну влюбляется и признается тотчас (вспоминаем заголовок!). Оказывается, что и купец Рогожин тоже к Настасье Филипповне дышит неровно, аж прямо кюшать не может. Собственно, потому Рогожин и обсуждал в поезде именно ее, а не иного кого. И потому, завидев соперника, Рогожин совершает "привычные купеческие безумства", буквально сжигая в камине пачку ассигнаций на 100 000 (сто тысяч) дореформенных царских денег. Пачка, правда, не сгорает -- тут Федор Михайлович проявляет несомненное знание человеческой натуры; находится кому спасти ценный пакетик.
На этом значимые события в первой части кончаются. Князя внезапно настигает наследство, получить которое он уезжает в Москву. Настасья Филипповна тоже куда-то уезжает, сбежав буквально с собственной свадьбы.
Выдохнув и перекрестившись на "Три источника и три составные части", открыл я вторую часть романа, где и понял: сюжет весь, сколь мало его ни проглядывает сквозь бытописательские наслоения, будет вертеться вокруг треугольника князь-Рогожин-Настасья Филипповна. Ценность же романа та самая, что у Донцовой: срез эпохи. Все эти якобы случайные разговоры вроде бы случайных и второстепенных персонажей, незаметно для читателя имплантируют ему прямо в мозг и душу этот самый богоносный, скрепный дух тогдашней России. А там, дескать, читатель пусть решает и какие-либо собственные выводы лепит. Поэтому дальше только о сюжете и о раскрытии характера князя Мышкина.
Во второй части князь Мышкин ворочается в Петербург. Встречается там с Рогожиным и обменивается с ним нательными крестами, что для тогдашних людей означало родство перед богом. Крестные братья числились выше кровных. В благодарность Рогожин пытается зарезать князя -- из ревности к Настасье Филипповне, коия в очередной раз убегает с очередной своей свадьбы. Князя от этакой братской любви ухватывает припадок, из-за чего убивец ножом промахивается. Но все же остаток второй части Мышкин лечится. Читателю предлагается посмотреть покамест на картины и характеры, выписанные Федором свет Михайловичем без лишних улыбок. Ну потому что мы же в самой сердцевине русской классической литературы. Надо держать фасон!
В части третьей на кое-как вылечившегося князя Мышкина из темноты напрыгивает средняя дочка Епанчиных, Аглая. В сцене объяснения мы с ужасом видим: Аглая Епанчина еще более инфантильна и менее приспособлена к жизни, чем князь Мышкин, выросший в Швейцарии. То есть, наш герой-прототип вовсе не самое дно непрактичности.
В следующей части происходит битва двух йокодзун. После примерно стостраничной подготовки, маневров, контрманевров и всякой там дипломатии, Аглая и Настасья Филипповна, наконец, встречаются лицом к лицу. Что называется, опустим завесу жалости над сей печальной сценой. Для князя все завершается окончательным и решительным объяснением. Рогожин изгнан, и Настасья Филипповна приступает к подготовке очередной собственной свадьбы -- на сей раз с героем романа.
Финал. Музыка, урежьте туш! Читатель ждет уж рифмы "розы"(с), и Федор Михайлович его не обманывает. Настенька снова коварно сбегает... к Рогожину, а вы что подумали?
Но тут наш купчик, прикинув хрен к носу, вдруг понимает, что Настенька будет этак бегать, пока у нее ноги не опухнут от водянки, а тогда ведь она станет вовсе некрасивой, потому что старой. Так не спасти ли женщину от участи преужаснейшей? Рогозин достает тот самый нож, коим едва не убил крестного брата -- ну и пришпиливает Настасью Филипповну к так и не ставшему супружеским ложу. Восьмиугольным господом клянусь, тут я выдохнул с неподдельным облегчением. Отмучилась тетка. Если бы она при том еще и князя не уложила наглухо окончательно в ту швейцарскую психушку, а Рогожина не отправила греметь кандалами по диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, так вполне положительный вышел бы персонаж.
Вернемся, однако, от прототипа к собственно нашей теме. По рецензентской науке полагается упомянуть культурный контекст, куда вписано произведение. И вот мы видим, что "Айтиот" вписан в самое ядрышко, в самый-рассамый глаз бури, в глубинную цитадель русской классики, загадочной русской души и всего такого.
Следовательно, заголовок "Айтиот" лично я для себя расшифровал как "Лев Николаевич Мышкин от IT". Подробнее: человек, не приспособленный к жизни в обществе.
С одной стороны, такой человек может быть приспособлен к жизни в каком-то другом обществе. Ну, как все эти наши попаданцы. Дома им плохо, зато в иной Вселенной они прям сходу ого-го! А некоторые даже иго-го.
С другой стороны, приспосабливаемость человека к окружающей среде суть его единственное эволюционное преимущество. Не просто важнейшее, просто: единственное. Других преимуществ нет совсем. И если у тебя в карточке по главнейшему параметру ноль, то важны ли все прочие свойства?
Не всякая реклама и не любая аннотация может сформировать читательские ожидания. По крайней мере, среди меня. Так ведь все, что я пишу в данной рецензии не более (но и не менее), чем личное мое мнение, никоим образом не претендующее на статус абсолютной (а хоть и относительной) истины, а потому и оценивать со своей колокольни мне не зазорно.
Итак, автор "Айтиота" сформировал образ преложенной книги буквально одним словом. Мягко говоря, это великолепная емкость и точность. Посмотрим теперь, как эти ожидания будут оправданы.
Герой "Айтиота", Олег -- "менеджер самого среднего звена"(c). Да, он управляет фирмой -- но не владеет ею. И обязан вместо желаемого развития конторы удовлетворять ожидания... Чуть не написал "читателей" -- нет, акционеров. То есть, лиц, некогда вложившихся в основание и развитие фирмы, а теперь ожидающих от сего прибылей. Действие романа открывается в период, когда фирма рассыпается, и Олег становится ее директором просто за неимением иных желающих. Это важнейший момент. Олегу не пришлось идти по головам, интриговать и подличать, чтобы получить директорское кресло. Более того, его, почти наверняка, и выбрали на эту должность, предвидя неизбежное утонутие бизнеса. Тут не важна деловая хватка и способность грызть глотки, тут буквально: "Подвернулся бы мне человек хороший, -- сказал кирпич, падая с крыши."
Князю Мышкину тоже (в отличие от купца Парфена Рогожина) не пришлось зарабатывать положение в обществе горбом и потом. Князь Мышкин по рождению принадлежит к аристократии. Пускай и к беднейшей части ее, но ведь это всего лишь в начале романа. Потом князь наследство получает и после уж двадцапятирублированием не страдает.
Здесь начинается первое расхождение. Герой Достоевского жил далеко от общества, куда теперь вынужден вписываться. Герой "Айтиота" -- московский офисный планктон. Московский! Плоть от плоти и кровь от крови. Олег никак не тянет на лоховатого провинциала, всего только и умеющего выводить красивейшие прописи. Олег не просто знает реалии страны, "в которой три пути: вебкам, закладки и ай-ти." Олег эти говнореалии буквально создает, ибо управляет он рекламной фирмой. Которая впаривает нам эти вот все говнотовары. Причем Олег нисколько не заблуждается ни относительно собственной роли, ни относительно роли фирмы. Он знает, что творит зло, знает -- как, сколько, почем.
Второе расхождение и для меня главное: Олег-то у нас вовсе не айтишник. Олег -- рекламщик. Это, пожалуй что, претензия к автору. Потому что по первому слову, по заглавию романа, я ожидал историю именно айтишника. Программиста, системного администратора, преподавателя на курсах -- ну этих, которые из каждого утюга обещают: "Мы сделаем из вас линуксоида за неделю. По крайней мере, красные глаза гарантируем!" Может, наш Олег администрирует полицейский участок, и его девушку, пламенную навальнистку, притаскивают туда с очередного митинга, и вот между ними решетка, и... Драма? А может, наш Олег программирует микроконтроллеры дронов? Ну такие летучие хреновины, которые в ковид спасают запертых по клетушкам человеков -- а после 24.02 этих самых человеков убивают. Вот-с, но программирует их до и после 24.02 тот самый Олег, ну пусть не сам, пусть его фирма. И вечерами после работы Олег задается вопросом, что же он делает, и добру ли, злу ли служит?
Если мы первым словом романа воткнули клешню в сердцевину русской матерь ея классической через гроб литературы -- глупо надеяться вынуть руку неповрежденной из сей мясорубки.
А?
Нет. Олег -- рекламщик. Разницу мой слабый язык объяснить не в силах. Можно, разумеется, обидеть айтишников и сильнее -- но мне таковой способ, слава богу, не известен.
Ладно. Черт с ним. Половинка названия свистнула "очень веско и на три метра мимо". Бывает. Жили без обложек, поживем без названия. Может, история Олега подарит нам ту самую ниточку между прошлым и будущим? Ту незримую, неуловимую -- но все-таки связь?
Чем же занимается наш Олег?
Олег наш управляет фирмой "Натив", причем управляет очень грамотно и вполне профессионально, и тем самым оставляет князя Мышкина далеко-далеко за флагом. Князинька наш не управлял ничем. Ему то было невместно: он же не купец Парфен Рогожин, а цельный князь Лев Николаевич (с отчеством, во как) Мышкин. Служить бы князь мог, вот и генерал Епанчин, завидев красивейший каллиграфический почерк Мышкина, предрекал ему карьеру.
Уточню: в эпоху Крымской Войны (1850е годы, а не что вы подумали) буквально все писалось только руками. Без вариантов. Книги печатались по рукописному черновику. Бланков заявлений не существовало вовсе. Прошения, служебные записки, доносы, любовные стихи, агитки, заемные письма, проповеди, поздравления -- буквально все! Поэтому каллиграфическое искусство князя Мышкина вовсе не бесполезная барская дурь. Из рядового письмоводителя князя Мышкина могли очень быстро продвинуть родственники. Уцепившись именно вот за умение красиво писать. Не у всякого тогдашнего служителя было за что зацепиться. А дальше срабатывает родня, связи, и вотэтовотвсе.
Снова уточню: служить -- это выполнять указания вышестоящего начальника. Инициатива тут не поощряется. "Нам не надобны умные, надобны верные"(с). Достоевский в "Идиоте" посвящает почти страницу жалобам на такое положение дел. Дескать, исполнительных полно, а вот кто бы мог чего-нибудь администрировать или там организовывать, у нас таковых и нету. Приказания исполнят, но чтобы по своей воле, ответственность на себя взять -- этого нет. Ни на пароходство, ни на железную дорогу, мол, не наберешь управленческого персонала.
Так что по умению оборачиваться-крутиться наш современник Олег все равно делает князя, как стоячего. Олег управляет фирмой в Москве, в наше время. Это, знаете ли, довольно сложное дело. Может быть, даже посложнее, чем красиво писать с завитушками. Особенно, если учесть, что Олег далеко не князь и мохнатой волосатой лапы в верхах у него нет. Пожалуй, не только князя Мышкина, пожалуй, что и тороватого Парфена Рогожина наш Олег мог бы заткнуть за пояс. "Москва бьет с носка", и если Олег в златоглавой не просто выжил, а и прикупил две (две!!!) квартиры -- ну хоть убей, никак Олег не тянет на благостного жителя страны эльфов, блаженного идиотика. Не тот типаж.
Князь Мышкин и выглядит, и говорит, и признается Настасье Филипповне, и даже дышит -- воистину "не от мира сего".
Олег суть плоть и кровь мира.
Отношения с женщинами у князя полностью оригинальные -- их нет.
У Олега отношения с женщинами полностью типовые: первая любовь, свадьба, развод. У Олега отношения в ходе романа будут еще, о чем я скажу в свой черед. Князь Мышкин даже до свадьбы не добрался.
Полно, да стоит ли приискивать эту связь? Может, ее и нету вовсе? Может, книги связаны не через главного героя, а через рисунок, отпечаток, дух времени? Может, люди эпохи "Идиота" чем-то сходственны с людьми эпохи "Айтиота" ? Может, надо смотреть не на Олега?
Посмотрим на персонажей. Благо, композиция обоих романов в основе своей сходственна. В обоих романах мы видим все главные события через героев.
Достоевский уделяет сколько-то внимания персонажам второго плана, показывает, как они себя ведут в отсутствие князя Мышкина и что говорят о князе. Но все-таки Достоевский показывает нам отношение этих людей именно к Мышкину. Князь тут фокальный персонаж, на нем сфокусирован и прожектор общественного мнения, и расчеты Гани с Варварой Ардалионовной, и братская ненависть Рогожина, и опасения Епанчина, и даже письма Настасьи Филипповны к Аглае все равно о князе. Для примера, Достоевский ни разу не показывал купца Парфена Рогожина за подсчетом прибылей, за торговыми делами, за переговорами с контрагентом и т.п. -- исключительно в ситуации, когда Рогожин связан с Мышкиным. Великое множество людей в "Идиоте", и все они вертятся вокруг князя Мышкина.
Автор "Айтиота" тенденцию сию преусугубляет и вообще не показывает нам ничего от лица персонажей. Все только от лица героя; более того, от первого лица. Мы вообще не видим, страдает ли непутевый брат Олега от подложенной семейству свиньи. Потом-то Игорь приходит извиняться, типа: осознал-раскаялся, прости, брат! Но кроме сцены в больнице мы никакой совершенно душевной работы лихобратца не видим, и потому лично мне такой поворот Игорька к свету показался откровенным роялем из кустов. Мы ничего не знаем, как перенесла разлуку с героем Катя, что думала любовница Ольга. Не что они сказали герою при встречах с ним, это как раз автор показывает в полном объеме, с умом, юмором и талантом. А вот что они думали?
С одной стороны, да, автор "Айтиота" фиксировал точку зрения строго на герое, и ничего кроме. Вроде как одномерно, без объема и фона.
С другой стороны, это образовало намного более простую, четкую и ясную структуру основной линии повествования. Формально и у Достоевского и у Каляевой романы об одном человеке; но на практике Достоевский растекается мыслью* по древу как Днепр в половодье, а Каляева с комиссарской непреклонностью ведет лодку прямым путем к водопаду.
Что в ходе романа делал князь, я пересказывал выше. Олег в ходе романа управляет фирмой. И это очень увлекательно, подробно и сопереживательно написано. Людьми вообще управлять сложно. А уж крутиться так, чтобы и начальство удовлетворить и подчиненные не разбежались от бескормицы -- тут родословной не заслонишься. Надо иметь мозги.
Кстати, о подчиненных. Они у Олега феерически разнообразные. Автор показал их всех наизвозможно ярко. Видимо, чтобы дошло даже до таких, как я.
Вот вам программист -- обязательно гений, непременно в мятой одежке, непрезентабельного вида, выражающийся непонятными словами. А вот вам Олег укрощает программиста Протасова; ей-богу, это просто чудесная сцена, куда там братьям Запашным и прочим тигроловам!
Вот вам современная молодежь наизнанку: Акамэ с понтами -- и, увы, закономерным итогом.
Вот вам оскал российского бандитского капитализма в лице Дазурова. Оскал вежливый, выбритый-приглаженный, но все такой же действенный, судя по истории с невовремя качнувшим права программистом Сашей.
Вот вам...
Фиг.
В смысле: индейское жилище. Это "Идиота" я пересказывал. Он классик, он выдержит. "Айтиота" читайте сами. Как по мне, книга того стоит. А что я "Айтиота" не хвалю, на то минимум две причины. Первая -- зависть, конечно. Вторая -- хорошего автора имеет смысл критиковать, чтобы стал еще лучше. Достоевский лучше уже не станет, чего о нем зря печалиться.
Чем же завершается Олегова одиссея?
Тем, с чего Федор Михайлович начал бы роман, буде писал его в наши дни.
Наступает 24 февраля понятно, какого года.
Из-за братской подставы Олег на тот момент имеет колоссальный долг перед страшным Дазуровым. Но Олег настолько крут, что по ходу романа еще и наставил Дазурову рога. Жена Олега, первая его юношеская любовь, с которой он к тому времени, наконец-то, сошелся снова -- беременна. Единственное светлое пятно в жизни Олега -- подготавливаемая им новая фирма, куда Олег с выкристаллизовавшимися по ходу романа друзьями желает свинтить от ненавистного корпоративного рабства. Рабство это новый владелец фирмы, тот самый страшный рогоносец Дазуров, по случаю 24 февраля, предлагает углубить всемерно. Дескать, мы спасем персонал, всех вывезем на Кипр, а они нам тогда должны будут по гроб. И как мы их всех тут заэксплуатируем!!!
А Олег берет и посылает страшного Дазурова нах. Типа, денег на спасение брата я у тебя взял -- спасибо. Жену твою натянул, обратно спасибо. Программиста Сашу ты мне помог укротить, снова благодарю. Теперь позвольте вам выйти вон. Вас не нужно.
Вот это я понимаю, дуга характера. В смысле: разогнулась и как даст в лоб. Куда там Сугралинову с его "Кирпичами"!
И...
Все!
Конец фильма.
Пофиг, что Дазуров, прикинувши хрен к носу, отреагирует малость покруче Парфена Рогожина. Чать, князь Мышкин купцу Рогожину никаких векселей не был должен -- а Олег чисто за фокусы брата Игорька обязан концерну "Дахау" как земля колхозу. Пофиг, что у Олега нет своей службы безопасности, адвокатов там никаких, знакомств и связей среди silovikoff -- а у Дазурова наверняка имеются. За беременную Катю Олег вообще не боится, это у меня прямо за гранью разума прошло, уже сквозь мутную пелену корвалола.
Ну и, наконец, в стране объявлена СВО, которую нельзя даже называть тем, чем она в самом деле является. И завтра Олежке запросто может упасть повестка в ящик, а еще дней через надцать в ящик побольше запросто упадет он сам. Чем он с того света поможет беременной Кате, чем поможет своим сотрудникам -- и сегодняшним и будущим, из этого его нового проекта?
"Но медоед отбитый, ему пох" (с).
Сначала-то я просто очешуел.
Потом попытался думать логически.
Вот у нас наступило 24 февраля. Привычный и родной мир окончательно поделился на две стороны фронта.
Я чего про свое родовое село в четырех ка-эм от монумента Трех Республик упоминал. У меня есть братья в Днепропетровске, а есть в Смоленске. А отдыхать мы в детстве ездили в тот самый Луганск, что назывался вовсе даже Ворошиловград.
С одной стороны, можно замутить неслабую драму. Вот вам семья при СССР, все типа счастливы. Вот раскол. Вот украинская ветвь семьи: майдан, кружевные трусики, в ЕС... В смысле, клубнику собирать в Англии, попутно играя в прятки с home office. Вот русская ветвь семьи. Полуживые девяностые, Чеченская война раз и два, митинги-фитинги, КрымНаш... Для кого-то все началось 24 февраля, а для кого-то ведь намного раньше. Нехорошо об этом забывать. Вот бы и расписать, какая там "Игра Престолов", куда там "Сага о Форсайтах", Джордж Мартин, подержи мою "Балтику"! Вот белорусская ветвь семьи, выборы-перевыборы, доллара не купить, на отпуск по нищете никуда не доехать, вот вам 2020й год: "В каждом автозаке должен быть ИП-шник и айтишник, иначе автозак не поедет"(с).
И вот наши дни, все три ветви смотрят друг на друга сквозь прицел. Драма?
С другой стороны, это Достоевский у нас осужденный на расстреляние и потом приговоренный к восьми годам каторги. Типа, помиловали. Автору "Айтиота" это, простите, зачем? Чтобы в биографии потом литературоведы красиво срались?
И автор с болью в сердце прекращает дозволенные речи. Точно как Парфен Рогожин в конце концов убивает Настасью Филипповну: хорош метаться, лежи уже.
Или как не стал продолжать Короткевич роман "Колосья под серпом твоим". Тоже подвел героев к самому началу восстания 1853года -- та же эпоха, что у Достоевского в "Идиоте", хотя годы, конечно, не совпадают полностью. И, написавши первую часть романа, сказал Короткевич: "Я не хочу видеть своих героев убитыми, поломанными. Вроде бы и надо. И логика романа диктует, и правда историческая, и вообще все. Но я не хочу." А ведь Короткевичу за описание восстания против кровавого царизма семь лет каторги бы не дали. Дали бы премию или еще там какой "Знак почета". Но промолчал Короткевич; так и осталось то восстание не воспетым. Только предок мой оттуда приветом, только бесполезный и бессмысленный сегодня монумент виден с его могилы.
"Айтиот" -- не Олег Батыев, он почти все делал разумно и правильно, кроме только финальной сцены, где сквозь шкуру героя проткнулся автор текста. Рот раскрыл, ан теперича не закроешь. Творческое высказывание, авторская позиция, признаки настоящего искусства? Ага. На семь лет, гражданочка, пройдемте. Не все комиссары 1920х пережили 1937й. Очень сильно не все.
Поэтому прикинул автор чего-то там к носу и не стал писать, как программисты ломятся на Верхний Ларс. Как привозят гробы и управляющий фирмы собирает деньги на похороны. Как распадаются семьи по признаку отношения к СВО.
Зачем очевидное писать, когда все это наблюдать приходится. Книжку закрыл, да выбросил: с глаз долой, из сердца нахрен. А жизнь как выключишь? "Куда ты от всего уедешь, когда оно со всех сторон?"(с)
В этом непроявленном отражении, неслучившемся оттиске, в непоставленной печати -- если даже ни в чем ином -- боль "Айтиота" вполне созвучна и почти соразмерна "Идиоту" Достоевского.
Ну, по скромному моему мнению, никоим образом не претендующему на статус абсолютной (а хоть и относительной) истины.
=====================================
* Я знаю прикол с шизобелкой Рататоск на Иггдрасиле, он тут не подходит. Здесь: "мыслью". Белочки у Достоевского не было. Хотя, конечно, некоторые его пассажи явно с похмелюги, особенно в "Подростке".
======================================
(с) КоТ
Гомель
начало зимы 2023