Рецензия на роман «Восемь самураев»
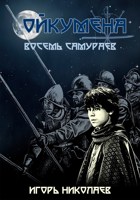
Автор известный: лично мне по серии "Железный ветер", вархаммеровскому "Гарнизону", а также по совместной с Рагимовым серии об условных средневековых ведьмаках -- только в антураже реальной Германии 15-16 веков. То есть, конечно же, в антураже Священной Римской Империи Германской Нации -- тогда так называлось.
Поэтому описание языка опускаю. Языком автор пользоваться умеет в более, чем достаточной степени для того, чтобы не отвлекаться от сюжета.
Но прежде, чем понять сюжет, придется сообразить, во что сюжет запакован. То есть -- композиция.
И здесь мы наблюдаем довольно редкого для русской фантастики зверя. Нет, я не оговорился: не фэнтези, фантастика. Почему -- скажу далее. Пока что да: фантастика, и да, крайне редкий зверь, а именно -- полноценный эпос.
У нас есть: оригинальный мир (собственно, Ойкумена). Автор избегает типичного стереотипа "море на карте слева" и строит материк без оглядки на известные образцы.
У нас есть: оригинальные культуры. Да, можно провести параллели с Венецией, Швейцарскими кантонами, Священной Римской Империей Германской Нации -- но это не более, чем параллели.
У нас есть: глубочайшее погружение в детали. Детали выбираются не поверхностные "под руку", а скручены так, чтобы в должный час выполнить некую роль сюжета. Роль, может статься, не важную и не великую -- но без нее мир Ойкумены станет определенно беднее.
Наконец, у нас есть порожденный всеми входящими условиями громадный объем текста, для которого все пять выложенных книг, а именно же: "Ойкумена" -- "Высокое Искусство" -- "Цирк на конной тяге" -- "Дворянство" -- "Самураи" -- так вот, все они всего лишь завязка главной интриги. Многообещающий первый том, только в пяти частях. Подержи мое пиво, Джордж Мартин!
Главная интрига -- как попаданец будет менять средневековое общество. При очень тщательной, детальной подаче "Ойкумены" -- такой, что книгу вполне можно воспринимать мысленным экспериментом, уровень строгости и точности по части применения источников достигнут, на моей памяти, наивысший -- приключения попаданца превращаются в элегантные шорты социального моделирования. Вот потому-то я отнес "Ойкумену" не к фэнтези, а к фантастике. Именно в этом вопросе -- а не только в отсылках -- мне видится диалог автора с Сапковским.
Напомню, что Сапковский первым внес в широкое читающее общество современные реалии, переложенные на понятия и ходы средневекового мира. Для девяностых годов ХХ века это прозвучало свежо и ново. Но прошло, страшно сказать, тридцать лет. Юные двадцатилетние мальчики с клюшками в занавесках доросли до полтинника, покрылись чешуей кредиток и визиток стоматологов, а кое-кто уже и до кардиолога продвинулся. Не пора ли делать следующий ход: осмыслить Сапковского и двинуть литературу дальше?
Не знаю, так ли автор думал. В конце концов, написанное здесь всего лишь исключительно лично мое крайне заинтересованное личное мнение, никоим образом не претендующее на статус абсолютной (а то и относительной) истины.
Вряд ли кто сумеет оспорить, что попытка Мартина с его "Игрой Престолов" не удалась. Мартин замахнулся крайне широко, развернув исполинское полотно Планетоса: два гигантских континента, масса субконтинентов помельче, разные культуры, обычаи, народы... И Мартина тем полотном накрыло. Не удержал вес. Реплика Сапковскому не вышла.
История державы Талига за авторством Веры Камши подавала некие надежды, хотя и концентрировалась на личности Рокэ Д'Алва сильнее, чем позволено не-любовному роману. По "Талигу" даже собирались сериал снимать. Но не знаю, чем там кончилось. Подозреваю, что русский капиталистический кинематограф поглотил и переварил "Талиг" не жуя, и даже газы не испустил в поминовение.
Почему же я ставлю "Ойкумену" выше всех упомянутых книг?
Автор "Ойкумены" никуда не спеша, обстоятельно и аккуратно рисует образ иного мира -- да, опираясь на наши, земные хроники. Но автор лезет в хроники столь глубоко, как обычно фэнтезисты не рискуют. И потому приводимые автором детали (вроде тех же башмачков на гусиных лапках) выглядят инопланетно. Этого средневековья массовый читатель не знал и к нему не готов. Замечу в скобках, что для книги это вовсе не хорошо. Для массового читателя текст получается слишком крепкий, насыщенный. С ног валит одним ароматом. Полагаю, потому-то его "Эксмо" и "Аст" все никак не публикуют. "Чуют быки: грядет гекатомба" (с).
Судьбу попаданца в иной мир (женщины по имени Елена) автор показывает с той же неспешностью, методично обыгрывая главные шаблоны попаданства, прикладывая их на средневековые реалии. Столкновения шаблоны, конечно, не выдерживают -- но мне понравилось, что это не выглядит нарочито, надуманно. Елена пытается выжить, как умеет, и действует все больше вынуждаемая грозной силой, а не потому, что ей вот захотелось. Или там автору возжелалось нарисовать прям героическую героиню, героически геройствующую на просторах. Нет: большую часть времени Елена получает удары, терпит боль, переломы, раны, теряет -- и хоронит, хоронит, хоронит всех, кто на беду свою оказался близко к глазу бури, а защититься сам не в силах.
Лишь в пятой книге -- собственно вот, в "Самураях" -- Елена переходит к действиям проактивным. Не реагируя на обстоятельства судьбы, а пробуя создать судьбу новую. К пятой книге Елена уже известна под именами Ведэра -- "Бродяга", Люнна -- "Милосердная" и, наконец, Хель -- демон из нижнего мира. К пятой книге Елена уже бретер, медик, автор удачных пьес, общей анестезии и бумажного самолетика.
Все это лишь затравка, заготовка, материал для возрастания героини. На судьбу Елены автор намекает в стиле того же Сапковского: эпиграфами из некоей исторической книги, написанной много позже. Обрывками дневников, что вели спутники Елены. Историческими монографиями университетов будущей Ойкумены, которую Елена иногда видит в магических снах. По всем этим упоминаниям читатель может сообразить, что задуманное Еленой переформатирование общества удалось -- но какой ценой, какими способами, как конкретно?
Автор планирует показывать это все с той же степенью подробности, детализации, исторической точности; понятно, отчего продолжение "Ойкумены" размечено минимум до десятого тома. В итоге -- по скромному моему представлению, никоим образом не претендующему -- получится этакий мастер-класс, "Игра Престолов" здорового человека.
Оборотной стороной выступает немаленький порог вхождения. Надо любить чтение или средние века довольно сильно, чтобы стоять за плечом героини весь ее кровавый, кровавый -- о, какой болезненный и кровавый! -- путь. Тем паче, что даже книга пятая, "Самураи", всего лишь заявка на победу. Разгон перед прыжком. Удастся ли, мы узнаем нескоро; бог даст, автор не Джордж Мартин, и мариновать нас в кровавом укусе не будет.
Пока что несколько замечаний чисто по технике исполнения -- в меру моего слабого понимания, никоим образом не претендующего; ну, вы поняли.
Фехтовальные сцены очень подробны, а это, мне кажется, не всегда нужно. Не зря ведь существует особая разновидность фехтования: сценическое. В произведении искусства все должно работать на послание от автора к читателю. Некоторые сцены я читал от выдоха к вдоху, а некоторые -- увы, пролистывал. Что огорчительно мне, как рецензенту, ведь я вижу, что автор неиллюзорно старается подать фехтование в соответствии с буквой и духом. Но как читателю, мне в некоторые моменты намного сильнее хочется знать: что же случилось с героями дальше? Раньян все равно выжил, так не все ли равно, как! Дальше сюжет гони!
Кстати, об одном из героев-спутников. Бретер, наемный фехтовальщик, Раньян по прозванию Чума, лучший в своем поколении... Неудивительно, если принять во внимание, кто его учил, но -- что есть, то есть. И вот, живучесть этого самого Раньяна поражает воображение. Как он выбрался после покушения на Короля Юга, не могу представить. Непонятно: то у нас детально все фехтование вплоть до тычка стилетом и размещения колец на мечах -- то у нас Раньян стоит перед входом и "ждет, пока упадет дверь" (с), а потом хоба! и вот он уже дополз до своих.
Что даже наилучший, богоподобный бретер пропускает удары -- вполне реалистично. А вот как он после этого выживает -- магия, че. Недаром его учитель -- воин-маг, единственный в Ойкумене.
Очень хорошо получились противники: Ужасная Четверка, особенно островитянин Курцио. Но и солдатский герцог хорош. Все действующие лица автором показаны в действии.
Вот Курцио интригует, его оружие яд, шпионские письма -- а что в молодости он служил абордажником и немало помахал "галерным клинком" всего лишь милый штришок на портрете, но как же вовремя!
А вот солдатский герцог Шотан перед битвой облачает молодого императора. Подробно, детально, с уместными рассуждениями о доспехах, мечах и тому подобных вещах -- именно вот перед битвой этому и место.
А вот старый Вартенслебен, то сокрушающийся о глупости детей -- то внезапно понимающий, что и дочери, и даже рубака-сын в чем-то лучше приспособлены к текущему положению дел, к внезапно изменившемуся миру. Драма отцов и детей, но не в антураже русских дворянских усадеб и тургеневских девочек. Ох, какая Флесса не тургеневская; да и Биэль не тургеневская, и не бальзаковская даже!
Молодой император Оттавио -- и его противник Артиго, еще моложе. Сходны в отношении к людям, различны во всем прочем. Они точно не смогут помириться, автор четыре книги потратил на такой витраж, где вот эти два стеклышка останутся целы исключительно в разных углах... И то: в конце должен остаться только один, закон жанра, да и историческая последовательность тоже. Троны никогда не делились на двоих сколько-нибудь долговременно, а уж бескровно -- про то и в сказках не сказывается...
Законник и его убийцы. Столичный палач и его провинциальные коллеги. Шарлей Лунный Жнец и Красная Ведьма... И так далее, далее, далее. Действующих лиц здесь немеряно. Об их сохранности автор заботится не более, чем Анка-пулеметчица о сбережении патронов.
Подробность, кинематографичность, детальность образов -- главное достоинство и главное же проклятие книги. Если Зубков в "Плохой войне" следит за судьбами нескольких семейств, если Конофальский в "Инквизиторе" прослеживает конкретно Иеронима Фолькоффа, всех же прочих лишь "в части касающейся", если Рагимов рисует кусочек, часть событийного ряда -- Николаев строит систему. Общество в целом. И поэтому замахивается на описание Ойкумены полностью.
Раньше я бы сказал: это сложно написать.
Сегодня я скажу: это и прочитать не все осилят.
Я не пожалел ни о единой минуте потраченного времени, но мой вкус далеко не эталон. Помнится, в "Лезвии Бритвы" Ефремов Иван Антонович писал: "Львиные охотники современной Африки -- всего лишь отголоски могучей борьбы человека со зверем, бушевавшей в палеолите". Книга "Ойкумена" -- отголосок борьбы человека с судьбой, бушевавшей все века предбывшие, и никак не стихающей, и наверняка не стихнущей в будущем.
Ойкумена показывает нам Средневековье в его обыденной жути, в таком переплетении добра и зла, что самому придется разбирать, где что -- а читатель нонеча напрягаться не любит.
Поэтому всем подряд рекомендовать не рискну. "Кому надо поймут, остальным ни к чему." (с)
КоТ
Гомель
Второй день лета 2025
