Триггеры читательского негатива в художественном тексте
Автор: Вадим СкумбриевЭта статья – развитие и синтез мыслей, уже изложенных мною в предыдущих диванных рассуждениях на тему литературы. Основана она на опыте изучения критических отзывов как на моё, так и на чужое творчество, в первую очередь на горячо любимом мною конкурсе Пролёт фантазии – из-за анонимности рассказов и чистоты эксперимента. Эффект ореола никто не отменял.
Всё нижеследующее написано уныло и занудно, я предупредил.
Краткое введение в когнитивистику
Человеческий мозг мыслит образами, поэтому текст является всего лишь посредником между заложенным в книге пластом информации и читателем. Для понимания и получения эстетического удовольствия реципиенту необходимо конвертировать текст в образы, что он и делает во время процесса чтения. В этом кроется главное отличие художественной литературы от научной: первая оперирует образами, вторая – суждениями. Причина этого заключается в том, что образы – вещь неточная, образы можно понимать по-разному. Если я напишу «перед вами стоит блондинка в синем платье», то каждый представит себе что-то своё. У одного читателя блондинка будет высокой и худой, у второго – низенькой и полненькой, у третьего – <пошлая шутка>. Разночтение неприемлемо для научной литературы, поэтому образность удаляется из научных статей.
Собственно, в этом же лежит причина негативного влияния канцелярщины на художественный текст: она лишает его образов и эмоций. Разумеется, в некоторых случаях может быть необходим именно такой эффект, но это исключение, а не правило.
Таким образом, текст – это способ передачи информации читателю. Казалось бы, заявление от кэпа Очевидность, но я уже не раз убеждался, что очевидные вещи почему-то известны не только лишь всем. Так вот, из этого тезиса можно внезапно определить, чем хорошая книга отличается от плохой на первом, самом поверхностном уровне: непрерывностью восприятия информации. Книгу можно сравнить с дорогой, по которой едет экскурсионный автобус. Если дорога ровная и гладкая, вас ничто не отвлекает от выслушивания рассказа экскурсовода и любования достопримечательностями. Если же она ухабистая, то до конца маршрута вы, может, и доедете, но впечатление от поездки будет уже иным.
Чтение хорошей книги – это своеобразный транс. Автор погружает вас в повествование, обрушивая на мозг поток информации, которая в свою очередь доставляет удовольствие за счёт стимуляции определённых зон мозга. Вы переживаете те же события, что и персонажи, и отчасти испытываете их эмоции – поэтому так популярны женское литпорно, попаданцы и тому подобные вещи. Другими словами, идеальная книга (в первом приближении) – это когда вы сели читать и нигде не спотыкаетесь по мере чтения.
Самый простой пример ухаба – это орфографическая или грамматическая ошибка. Читаете вы книжку, и тут вдруг натыкаетесь на классическое «мне нравитЬся». Бух! Транс прекращён, вам нужно снова погрузиться, чтобы продолжить «сеанс». А теперь представьте, что таких ухабов в книге очень много. Разумеется, чтение превратится в пытку.
В общем случае непрерывность зависит от стилистики, в частности – от ритма текста. Если вы поймали ритм, то можно смело отправить в утиль заветы «как написать хорошую книгу» от псевдогуру литературы, потому что читатель знать не знает, что надо выпалывать былки, что обилие местоимений – это плохо, и так далее. Плевать он хотел и на эти правила, и на тех, кто их придумывает. Вы погрузили его в транс, всё, работа сделана.
Каскадный резонанс
Транс характеризуется тем, что восприятие человека в таком состоянии изменяется. Речь идёт об усилении селективного мышления, одного из основных когнитивных искажений. Суть его заключается в том, что человек фильтрует поступающую информацию, отсеивая часть её по какому-либо правилу. Например, адепт теории заговора рыщет по интернету и выбирает только те источники, которые так или иначе подтверждают его точку зрения, а опровергающие игнорирует. Разумеется, в результате у него получается неверная картина, и это – пример негативного влияния искажения. Но если мы обратимся к литературе, окажется, что есть у него и польза. Отчасти поэтому описанные мною в «Метаморфозах сознания» ординаторы вместе с селективным мышлением лишились возможности воспринимать искусство: они не могли ввести себя в нужное состояние и получать удовольствие от чтения или созерцания.
Погружённый в транс читатель не замечает мелкие косяки стиля, логики, не замечает анахронизмы и тому подобные вещи. Он мыслит селективно: книга ему уже нравится, так что читатель подсознательно игнорирует вещи, которые могут испортить впечатление, хотя мозг и воспринимает их. В этом смысл совета обратить особое внимание на первые абзацы: транс нужно начинать с первых же слов, иначе потом будет слишком поздно. Именно на него работает стиль, интрига и всё остальное. Раскрытие персонажей, идей, цельность сюжета – всё это уже более глубокие уровни, обзор которых выходит за рамки статьи.
Теперь представьте, что текст вам достался ухабистый. Вы споткнулись на первом же абзаце. Транс отсутствует, ваше внимание сконцентрировано и, как следствие, вы легко воспринимаете те самые мелкие косяки, которые пропустили бы, будь текст хорошим. Более того, практика показывает, что в случае обилия ухабов влияние мелких косяков только усиливается: в отзывах на том же Пролёте фантазии их часто ставили в один ряд с крупными.
Отчасти поэтому дьявол кроется в мелочах. На мелкие косяки можно закрыть глаза – но ровно до тех пор, пока в тексте у вас нет крупных. Упомянутый в подзаголовке каскадный резонанс заключается в том, что крупные ляпы нарушают нормальный процесс чтения, после чего начинают вылезать ляпы мелкие, усиливаясь и не позволяя снова погрузиться в транс. Этот снежный ком всё нарастает, пока вы не испытываете примерно такую реакцию:
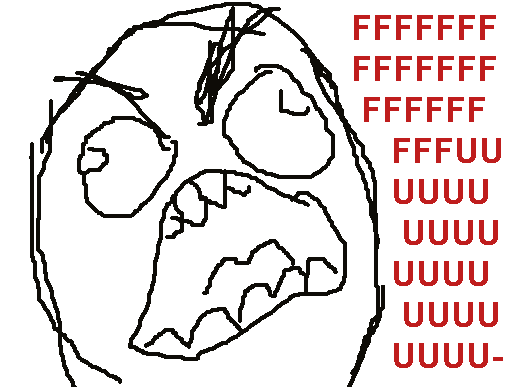
Исключение – Жестокие Голактики, но о них речи не идёт.
Крупные ляпы работают как триггеры, запуская процесс каскадного резонанса и в худшем случае портя вообще всё впечатление от рассказа. Более того, триггер может запустить процесс осмысления скрытых косяков логики, которые заметить при не особо вдумчивом чтении невозможно. Мир того же Гарри Поттера не выдерживает никакой критики, стоит только задуматься над ним, однако этого никто не делает, потому что все увлечены историей. В этом и смысл.
Образы-триггеры
Из этого следует, что нужно понимать хотя бы на интуитивном уровне отношение читателя к тем или иным триггерам и работать с учётом этих эффектов. И если с орфографическими ошибками всё предельно однозначно, то в случае с образами уже далеко не совсем.
Возьмём простой случай: вы увлечённо описываете сцену убийства доброго светлого эльфа Ю злобным тёмным эльфом Таыщ’ын’кахр’бун’юком. Вот Ю падает на колени, потому что Таыщ’ын’кахр’бун’юк вонзил ему в грудь свой меч; алая кровь течёт по желобку кровостока…
Одно-единственное слово выбивает читателя из транса и заставляет его испытывать острый негатив. С большой долей вероятности он начнёт даже не столько замечать мелкие ошибки, но и в целом обратит внимание на излишний пафос сцены, на штампованные последние слова Ю - «Моя верная подруга Таунимилилилилилилиэль отомстит тебе, подлый Таыщ’ын’кахр’бун’юк!», на то, что с мечом в груди очень трудно выговорить такие имена, и так далее. Хотя, казалось бы, это ж мелочи. К этому придираться… ну, как-то глупо. Но в этом случае придираются, а в случае шедевра N с аналогичными проблемами – почему-то нет.
Опасен не столько ляп, сколько вызываемый им каскадный резонанс. Однако далеко не все они запускают этот процесс, и тут важно понимать, чем триггер отличается от простого ухаба.
Для этого стоит обратиться к меметике, потому что наличие образа в массовом сознании искажает отношение к нему. По своей сути и кровосток, и, скажем, обзывание двузубых вил «рогатиной» - глупости, но глупости разные. Первое – растиражированная ошибка Перумова, уже довольно долго выступающая в роли посмешища для всех, кто мало-мальски знаком с историей и холодным оружием. Соответственно, над использующим это понятие человеком будут смеяться. Второе – распространённое заблуждение, которое, однако, не стало мемом и не вызывает откровенно негативного восприятия. Ну, ошибся человек, поверхностно предмет знает, ну и что? Можно, конечно, и посмеяться, но процент хохотунов в любом случае будет меньше, потому что над кровостоком люди смеялись раньше и смеялись коллективно, а вот над вилами-рогатиной как-то не доводилось. В конце концов, не всякий вообще обратит внимание на такую ошибку.
Таким образом, задача писателя – понимать, какие именно образы он применяет и какую реакцию они могут вызвать. Конечно, это тоже тезис от кэпа Очевидность, но он систематизирует всё написанное выше.
Стоит также отметить, что триггерами или просто ляпами могут выступать не только ошибки, но и совершенно правильные вещи, если в массах распространено неверное представление о предмете. Например, в «Долгой полночи», где сюжет разворачивается во Франции в 1348 году, в первоначальном тексте с первых же абзацев главная героиня мечтала помыться после верхового путешествия. Естественно, это вызывало негативную реакцию у любителей Немытой Европы, которые тыкали в это пальцами и заявляли, что я-де допустил ошибку, тогда в Европе никто не мылся. Возникла дилемма, как поступить.
Вариант «прогнуться и удалить триггер» даже не рассматривался: вертел я на нефритовом жезле мнения дураков. К тому же дальше в тексте всё равно присутствовали и ванна, и бритьё, и купание в реке, и так далее. Вариант «оставить как есть», однако, меня не удовлетворял как естествоиспытателя. В конце концов я просто сдвинул триггер чуть дальше по тексту, на вторую страницу, и вуаля! Претензии прекратились!
Вероятно, это не столько потому, что с первых же слов я успел погрузить читателя в транс, скорее просто читатель формулировал мнение в духе «а неплохо» и дальше, наткнувшись на мечты о мытье, давал мне фору – а дальше уже начинала работать ритмика и описанный мною ранее «эффект заклёпок». В целом это тоже когнитивное искажение – общее впечатление от объекта сильно зависит от первичного, это ещё один смысл совета править до блеска первые главы. Но обсуждение его уже находится за рамками статьи.
Вывод
К сожалению, аналитическими способами выявить триггеры довольно сложно, в первую очередь потому, что невозможно проверить вообще весь текст – триггером может оказаться что угодно, в том числе и вещи, которые кажутся вам незыблемыми. Любители Немытой Европы ведь даже не задумываются о том, верны ли их представления. Выходов получается два: либо нарабатывать эрудицию и опыт, то есть очень хорошо разбираться в теме, либо использовать консультантов. Если бы автор описанной выше сцены убийства эльфа Ю потрудился бы поспрашивать знакомого реконструктора или просто обратился бы на тематические форумы, или ещё куда, кровосток был бы хирургически удалён до завершения книги.
По-видимому, в общем случае приходится сочетать эти два метода.
