Продолжаю о литературе. Конец 80-х начало 90-х. Не информация, просто ощущения
Автор: Марина Эшли Marina EshliЯ смутно помню начало 90-х, потому что заболел и умирал горячо любимый отец. Я лучше помню конец 80-х. Оглядываясь, думаешь, что мы ожидали от перемен этакий вариант оттепели, а дальше не разрушение государства, а пересборку в обновленном формате. Для литературы - более мягкую цензуру.
Но появились первые ласточки. Я помню «Замок» Кафки сразу в двух толстых журналах. Ухитрилась на один подписаться. До того Кафку читала в школе, по-моему, «Процесс» издали вместе с чем-то Сартра и еще одного абсурдиста (или как правильно википедия называет этот стиль). «Замок» разочаровал. Вот ждешь особенного, полон решимости, потому что молод и не депрессивен, а тебе подсовывают вещь беспокойную, в то время как ты хочешь чего-то жизнерадостного. Не перечитывала с тех пор – ощущение, что нездоровый на голову человек пытается найти логику в том, в чем участвует, цепляется за химеры, а ты не понимаешь, это правда он внутри абсурда с непонятной логикой или он болен. Но, может, издание "Замка" было не глюком, а горькой иронией от матрицы тех времен – напечатали перед 90-ми именно такую безысходную вещь?
В украинском «Всесвите» (аналог русской «ИЛ») напечатали «Игру в бисер» Гессе. Платонова еще напечатали книжкой. «Котлован»? Венечку Ерофеева. Короче, вынули из небытия раньше не печатавшиеся произведения советских писателей. Апогеем апофеоза была «МиМ» Булгакова в 88-м году в мягкой обложке громадным тиражом. Почему апогей? Потому что почти никто не брал, свободно лежала в магазинах и не раскупалась. У всех уже было в ксерокопиях и давно. Ну или такой тираж, что превысил спрос. Я купила, но так и не открыла, не перечитала. Слишком неприятная была тонкая бумага внутри.
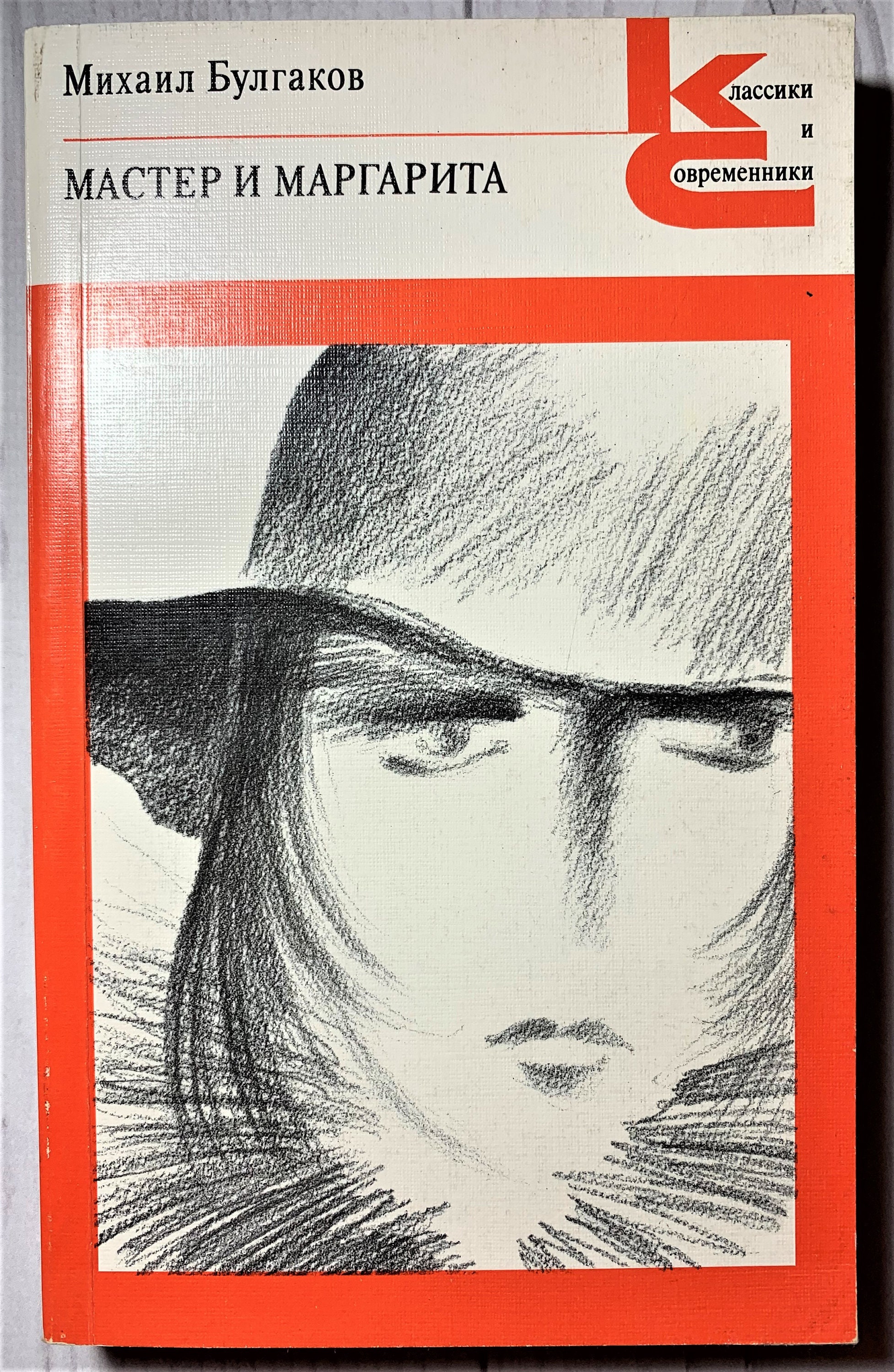
Конец 80-х для меня - ощущение больших надежд и пессимистическая литература вокруг. Новых имен не помню, но это не значит, что их не было.
В 90-е на рынок хлынуло много, до того не читанного, но дешевого качества печати от расплодившихся типографий (ну не издательствами же называть). Это была долгожданная переводная литература. Баум с его страной Оз целиком все книги в топорном переводе, «Нарния» Клайва Льюиса брошюрками, но с иллюстрациями. Настоящие издательства выпустили Льюиса другие труды, а заодно оказалось, что Честертон не только детективы про отца Брауна писал. Наконец-то мы узнали, что случилось с Фродо и кольцом после стольких лет ожидания! Правда переводы были один другого «лучше». "Сильмариллион" и сказки. Выпустили ранние вещи Ремарка! То есть сначала на рынок хлынула великая западная литература, которую от нас скрывали, потому что не соответствовала идеологии. Я так понимаю, что за переводы по советской привычке не платили авторам заграничным.
А что случилось дальше в отечественной литературе.
Максим Мошков открыл электронную библиотеку и при ней самлиб, то бишь самиздат. Так как компьютеры были не у всех и чаще всего на работе, то там начали тусоваться или в общем сильные авторы с высокими планками, которых естественно не публиковали, так как был завал импортных, или откровенные графоманы, которые дорвались до площадки. Промежуточный вариант пока отсутствовал – не было доступа у более простецкого народа к выкладыванию текстов. И читатели (по моему субъективному мнению все!!!) в общем отсутствовали, потому что имелся скепсис – раз вас не печатают на бумаге, то вы того не стоите, тем более, что среди графоманов тусуетесь. Потом ситуация преломилась.
Для обсуждения литературных явлений существовал «РЖ» (русский журнал). Я помню время, когда все друг другу посылали ссылки на интереснейшие статьи оттуда. И в общем в журнале толстом напечататься – это значит, что ты находишься поисковиком в РЖ, который собирал архивы журналов.
На рынок начали заходить иностранцы. Я помню «Ридерс Дайджест», на который все сначала накинулись в надежде на интересных буржуйских авторов и тут же остыли, удивившись пустышковому содержанию, но журнал довольно навязчиво себя всюду совал. Но не помню, были ли там русские авторы.
Знаю, но не смогу сейчас откопать ссылки на первых ЛРщиц (и это не Амадеус, как вы не знаете Амадеус?). Так как валом хлынула иностранная литература, то переводчицы набирались из подрабатывающих мам в декрете, например. И они часто писали что-то свое, переписывали не очень понравившееся под свой вкус. И когда рынок запросил еще – издатели к ним обратились за уже новыми опусами.
Пошли валом фантасты и боевики. Это я не отслеживала вообще.
И была ситуация – сначала печатали под русскими именами, но тексты были такого качества, что не удовлетворяли еще существовавшую планку у читателей. И чтобы книги продавались, то авторов русскоязычных печатали под иностранными именами выдавая за перевод. К иностранной литературе доверие еще существовало.
Мое личное недовольство - без цензуры печатались не просто оккультные, псевдолечебные книжки, но и якобы религиозные. И они попадали валом в церковные лавки по недосмотру (или неграмотности) продавцов. И сильно опустили авторитет церкви. Церковь спохватилась и ввела жесткую цензуру с большой очередью. Но тут отдельная история.
А народ потихоньку опростился и уронил планку. Однако в официальных книжных все еще был небольшой набор прошедших отбор имен. Жизнь стала тяжелой, литературы захотелось легкой, но с отголоском проблем текущего дня. Акунин, Маринина и Донцова.
Но издательства и книжные все еще были бизнесами независимыми. И существовала организация мелкооптовых закупок, которая распродавала уже по книжным и ларькам необхятной страны и отколовшимся республикам. Может быт кто-то помнит, как называлась компания по распространению книг по прилавкам? Вертится на языке, не могу вспомнить, даже смутно помнится, что было две конкурирующих организации.
Все было завалено книгами. Народ рылся в развалах в поисках скорее букинистических, чем современных. Но выжить было главнее. Впрочем, книги на развалах стоили дешево.
Начало двухтысячных в следующем посте.
Сделайте скидку, что это просто эмоциональные воспоминания, а не копирование материала из википедии.
