Антон Веберн
Автор: Игорь Резников Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Антона Веберна – одного из столпов «новой музыки». Музыка Веберна в творческом наследии знаменитой триады композиторов-неовенцев занимает особое место, сильно отличаясь от музыки как Шёнберга, так и Берга – прежде всего преобладанием миниатюрных музыкальных форм, в которых плотность и организованность звуковой ткани достигают предела возможного. «Сверхъестественные, жуткие голоса самой природы, пугающий грохот подземных вулканов или парящие крылья с других планет», – так характеризовали музыку Антона Веберна современники.
Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Антона Веберна – одного из столпов «новой музыки». Музыка Веберна в творческом наследии знаменитой триады композиторов-неовенцев занимает особое место, сильно отличаясь от музыки как Шёнберга, так и Берга – прежде всего преобладанием миниатюрных музыкальных форм, в которых плотность и организованность звуковой ткани достигают предела возможного. «Сверхъестественные, жуткие голоса самой природы, пугающий грохот подземных вулканов или парящие крылья с других планет», – так характеризовали музыку Антона Веберна современники.
Жизнь Веберна не была богата яркими событиями. Она протекала скромно, вдали от суеты, не очень-то балуя его шумным успехом. Антон фон Веберн родился 3 декабря 1883 года в Вене, в семье горного инженера. Потомок древнего дворянского рода, в детстве он обучался игре на фортепиано и виолончели. Ребенком он не проявил особо выдающейся музыкальной одаренности, хотя тяготение к музыке было сильным. Духовная жизнь Веберна с раннего возраста отличалась глубиной и серьезностью. Он мечтал стать дирижером (позже эта мечта сбылась). Но первые опыты сочинения музыки вовсе не дали блестящих результатов. Свою музыкальную карьеру Веберн начал как теоретик-музыковед. Возможно, поэтому в его произведениях так много рациональности – она была заложена в его натуре и позже проявилась и в творчестве.
Решающую роль в жизни Веберна сыграли занятия с Шёнбергом, у которого он учился в 1904—1908 годах. Именно в эти годы он обрел себя как композитор. Однако на жизнь он зарабатывал дирижированием, сначала в оперетте, которую недолюбливал, а с 1927 года стал дирижером Австрийского радио. Альбан Берг, с которым Веберна связывала многолетняя дружба, считал его одним из величайших современных дирижеров, но сенсационные гастрольные поездки на долю Веберна не выпали, если не считать отдельных выступлений в Испании и Англии, где он исполнял и собственные произведения. Веберн был очень требователен на этом поприще и однажды отказался дирижировать Скрипичным концертом Альбана Берга в Барселоне за пару дней до выступления, поскольку ему не понравилось звучание местного оркестра.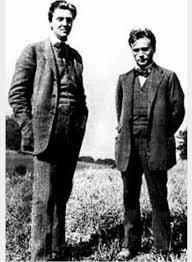
Альбан Берг и Антон Веберн
Наиболее интенсивным оказался контакт Веберна со слушательской аудиторией в столь счастливые для нововенцев 20-е годы. Во всяком случае, его авторитет в композиторских кругах Австрии и Германии был тогда уже достаточно высок, сочинения его исполнялись и издавались, они вызывали интерес и за рубежом, особенно в Англии и США. Одновременно Веберн давал частные уроки дирижирования, композиции и теоретических предметов. Его ученик, композитор Филипп Гершкович вспоминает: «Часто урок проходил так: ученик сидел около рояля, а Веберн говорил в течение двух часов, беспрерывно расхаживая по комнате... Чувствовалось, что Веберн говорит, обращаясь к обоим — к ученику и к самому себе».
В 1932 и 1933 гг. Веберн прочитал в одном венском частном доме два цикла лекций на тему «Путь к новой музыке». Под новой музыкой лектор подразумевал додекафонию нововенской школы и анализировал то, что ведет к ней на исторических путях эволюции музыки.
С 1922 года развернулась деятельность Веберна в качестве дирижера венских рабочих симфонических концертов и хормейстера Рабочего певческого объединения. Она имела большое просветительское значение и продолжалась до февраля 1934 года, когда в связи с наступлением фашизма в Австрии рабочие организации были разгромлены. Переломным моментом в судьбе Антона Веберна стал гитлеровский «аншлюс» его родины. Веберн, оказавшийся неспособным к открытой конфронтации с новым строем, тем не менее страстно отвергал нацистское варварство в области политики и культуры. Он тяжело переживал свое положение внутреннего эмигранта, свое одиночество. К тому времени Шёнберг, с которым ему более не суждено было встретиться, находился в эмиграции, а Берга уже не было в живых. Музыку композитора объявили «дегенеративной» и «культур-большевистской», а самому Веберну запретили занимать какие-либо должности. Нацисты причислили его – чистокровного «арийца», но ученика Шёнберга, к разряду «еврейских прихвостней». Вследствие этого материальное положение музыканта резко ухудшилось. Приходилось перебиваться переложением произведений второстепенных авторов по заказу издательств. Веберн продолжал сочинять музыку, но совершенно без надежды быть услышанным: совсем другое искусство было нужно заправилам Третьего рейха. Большой моральной поддержкой для композитора явилось дружеское общение со скульптором Йозефом Хумпликом и его женой, поэтессой и художницей Хильдегард Йоне, автором текстов поздних вокальных произведений Веберна.
В тесном кругу немногочисленных преданных друзей, понимавших и разделявших его художественные устремления, прошли последние годы его жизни. Она оборвалась трагически и нелепо в предместье Вены Миттерзиле 15 сентября 1945 года от пули пьяного американского солдата, посчитавшего, что Веберн нарушил комендантский час. Вот как описывает это одна из венских газет: «Около десяти часов вечера он стоял у дома своего зятя, наслаждаясь последней перед сном сигарой, когда внезапно раздались выстрелы. Д-р Веберн, шатаясь, вошел в дом и сказал жене «Меня застрелили». Вскоре после этого он скончался». Вдова композитора Вильгельмина Веберн пыталась добиться правды — в результате зять получил год заключения за подпольную торговлю, а результат действий солдата признали «несчастным случаем при исполнении служебного долга». Сам виновник смерти композитора умер спустя десять лет от алкоголизма. Вильгельмина Веберн умерла через четыре года после мужа и похоронена рядом с ним в Миттерзиле на местном кладбище. Там же в 2000 году упокоилась и их дочь Мария.
Вскоре после окончания Второй мировой войны, на волне бурного возрождения интереса ко всякому преследовавшемуся нацистами искусству, творчество Веберна оказалось в фокусе всеобщего внимания. Прежде всего, будоражила умы интригующая новизна музыки Веберна, в которой, по крайней мере композиторы, музыковеды и исполнители, склонные к современной музыке, видели наиболее совершенное и последовательное воплощение (даже в сравнении с Шёнбергом) метода додекафонии. Творчество композитора достигло такой популярности, о которой при его жизни и мечтать не приходилось. Произведения его стали исполняться, появилась обширная литература о них, все они были записаны на четырех долгоиграющих пластинках. Композиторская техника Веберна, в силу заложенного в ней стремления к усиленной интеграции звуковой ткани, стимулировала поиски в том же направлении молодого поколения послевоенных композиторов –авангардистов : Пьера Булеза, Луиджи Ноно, Карлхайнца Штокхаузена. Большую роль сыграл и пробудившийся в начале 50-х годов интерес Стравинского к ранее отвергавшейся им додекафонии: автор «Весны священной» подчеркивал, что принимает эту технику не в шёнберговском, а в веберновском варианте.
К середине 70-х годов пик интереса к Веберну проходит. Его музыка, вследствие трудностей ее исполнения и восприятия, не могла приобрести популярность у широкой аудитории. Вот как об этом говорит Ю.Н.Холопов:
Образный мир искусства Веберна далек от бытовой музыки, простых песен и танцев, сложен и непривычен. В основе его художественной системы — картина гармонии мира, отсюда естественная близость его к некоторым сторонам учения И. В. Гете о развитии природных форм. Этическая концепция Веберна опирается на высокие идеалы истины, добра и красоты, в чем мировоззрение композитора корреспондирует с Кантом, согласно которому «прекрасное есть символ прекрасно-доброго». В эстетике Веберна сочетаются требования значительности содержания, опирающегося на этические ценности (в них композитор включает и традиционные религиозно-христианские элементы), и идеальной отшлифованности, богатства художественной формы.
К тому же менялись направления авангарда, не все они испытывали тяготение к нововенской традиции. Даже Пьер Булез, который в начале 50-х годов говорил о полной бесполезности композиторов, не усвоивших уроки Веберна, и часто сам дирижировал его произведениями, в конце 70-х стал гораздо критичнее относиться к его творчеству. И все же интерес к творчеству Антона Веберна не пропадает. Ведь его лучшие произведения принадлежат к числу самых выразительных и достоверных звучащих документов, запечатлевших некоторые важнейшие нюансы идейной и эмоциональной атмосферы первой половины ХХ века.
Творчество Веберна можно разделить на три периода.
Первый, тональный период представляет классическую ладотональность, но уже во «взрывоопасном» состоянии. К этому периоду относятся несколько ученических сочинений (в том числе Струнный квартет и Фортепианный квинтет). Этот период не очень результативен, однако он включает одно безусловно гениальное произведение – Пассакалью, которой свойственно высочайшее качество тематического материала (далеко не исчерпывающегося одной остинатной темой), виртуозное мастерство его развития, большой размах формы, весьма свободно трактованной. Пассакалья – наиболее развернутое и одно из самых совершенных произведений Веберна.Здесь уже слышна неповторимая авторская интонация, пусть отличающаяся от той, которая несколько позже становится для композитора определяющей: основная эмоциональная доминанта произведения заключена в сфере проникновенных лирических чувств, по малеровской традиции отмеченных щемящей хрупкостью и выражающих мучительную тоску по недостижимому идеалу гармонии и красоты.
Второй период творчества Веберна, характеризующийся уже полным раскрытием его композиторской индивидуальности, охватывает все атональные произведения (вплоть до 1924 года) и вдобавок еще четыре первых додекафонных произведения, созданные в 1924 – 27 годах. Интересно, что заметный стилистический разрыв образуется у Веберна не между последним свободно-атональным произведением (Пять канонов для высокого сопрано, кларнета и бас-кларнета на латинские тексты) и первым додекафонным (Три народных текста для голоса, скрипки, кларнета и бас-кларнета ), а между двумя додекафонными сочинениями, написанными в течении одного 1928 года – Струнным трио и Симфонией для кларнета, бас-кларнета, двух валторн, арфы и струнных. Второй период в свою очередь подразделяется на два этапа: в сочинениях 1908—14 годов преобладают циклы небольших инструментальных пьес. А в 1915 – 27 годах, за исключением Струнного трио, представлены лишь циклы несколько более развернутых вокальных номеров (на тексты Гёте, Тракля, Розеггера, из «Китайской флейты» Бетге и др.).
Ко второму периоду относятся наиболее известные и часто исполняемые сочинения Веберна: Пять пьес для струнного оркестра, ор. 5, Шесть пьес для оркестра, ор. 6 (1909), Шесть багателей для струнного квартета, ор. 9 (1913), Пять пьес для оркестра, ор. 10 (1913). Первые два цикла состоят из инструментальных пьес, которые сотканы из немногих резко очерченных штрихов, либо в более редких случаях, создают то или иное неизменяемое состояние. В них Веберн находит множество новых тембровых, колористических сочетаний, остроумные комбинации ритмов и орнаментов. Последние же два цикла представляют тип музыкального афоризма в чистейшем виде, краткость их беспрецедентна. Четвертая пьеса из ор. 10 занимает лишь шесть тактов и длится всего несколько секунд. В инструментальных пьесах Веберна уплотненность музыкального времени явно достигает предельной концентрации. Каждый отдельный аккорд, интервал, даже каждый звук или пауза находятся в особых отношениях с контекстом, заставляют обращать на них пристальное слуховое внимание, воспринимать их в качестве носителей важнейшей эстетической «информации». Подобная техника «звуковых точек», или пуантилизм, становится в высшей степени характерной для Веберна. Из нее непосредственно вытекает и лаконичность его произведений, уже никогда более не достигающих масштаба Пассакальи. При такой смысловой наполненности звуковой ткани более развернутое изложение скоро привело бы к ее перенасыщенности. В пьесах второго периода намечается, а местами и полностью реализуется стремление к атематичности, здесь мало ощутимо постоянство даже кратчайших тематических формул. Образность пьес Веберна в некоторой степени «зашифрована» слишком большой многослойностью заключенного в ней комплекса ассоциаций. Не вызывает сомнений, что композитор здесь как никогда близок к экспрессионизму – в моментах сосредоточенной тишины и в драматических вспышках, местами сгущающихся до крика. Также очевидно преобладающее трагическое содержание заключенных в этих пьесах музыкальных высказываний. Т. Адорно, один из ведущих западных исследователей истории и эстетики музыки XX века, активный пропагандист творчества неоовенцев, увидел в Шести пьесах для оркестра, ор. 6 (и в других подобных сочинениях Веберна), точнейшее отражение общей эмоциональной атмосферы эпохи.
Последний период творчества Веберна открывает двухчастная Симфония, ор. 21 (1928), ни по жанровым признакам, ни по масштабу не имеющая ничего общего с симфонией классического типа. Здесь со всей очевидностью проявляется полная независимость от Шёнберга в использовании додекафонии.
Вкратце: выбираются серии с элементами симметрии в соотношении звуков. При одновременном проведении нескольких серий композитор устанавливает между ними тесные звуковысотные связи, особо выделяя те отрезки, которые оказываются у серий общими (при разном порядковом номере звуков). Такие отрезки в теории додекафонной композиции называются «мостами». В целом додекафонная организация звуковысотной ткани идеально соответствовала давним творческим устремлениям Веберна, она увенчала его длительные и напряженные поиски путей к достижению совершенства музыкальной структуры. Веберн всегда был увлечен идеей мировой гармонии, единым закономерностям которой подчиняются явления как природы и жизни, так и искусства, в том числе музыки. Идеальную формулировку этих закономерностей он нашел в трактате горячо почитаемого им Гёте «Метаморфоза растений», где все единство явлений растительного мира сводится к прарастению, к некоторому первоявлению, или прафеномену. В своих «Лекциях о музыке» Веберн прилагает идеи Гёте к музыкальной форме и показывает, что она развертывается по тем же законам:
Корень, в сущности, не что иное, как стебель; стебель не что иное, как лист; лист опять-таки не что иное, как цветок: вариации одной и той же мысли». Додекафонную серию он рассматривает именно в качестве того «прарастения», которое наилучшим образом обеспечивает гармонию и тесные взаимосвязи элементов структуры произведения.
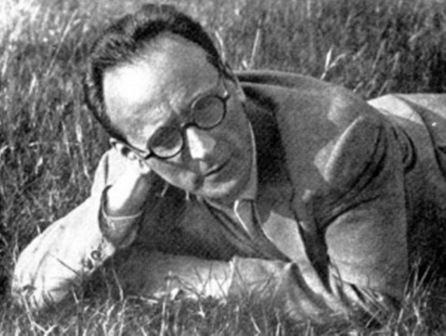 Нельзя не согласиться с композитором и музыковедом Антоном Сафоновым:
Нельзя не согласиться с композитором и музыковедом Антоном Сафоновым:
Веберн несомненно уникальнейший композитор ХХ века, понятный и вне пресловутого национального контекста — всем, у кого открыты уши. Невероятно сложные структуры его музыки доступны только анализу, но ее звучание утонченно и прозрачно. Ведь так же обстоит дело и с архитектурой: нам не обязательно знать чертежи гениальных творений, чтобы получать удовольствие от их созерцания. Музыка Веберна требует от нас прежде всего именно ушей. И здесь в конце концов уже не важно, «авангардный» он композитор или «завершающий эпоху». Он единственный и неповторимый от начала до конца — и именно его неповторимость заслуживает нашей любви и восхищения.
